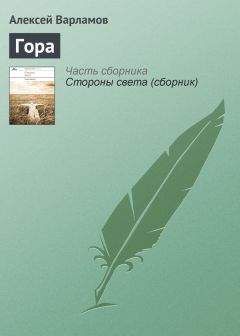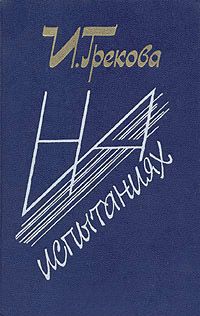Нет, Вера о своих ребрах не помнила. Все бы так и шло: луна, провожания, улетания, если бы на третий день не пошел дождь. Волей-неволей пришлось привести Сергея Павловича в дом. Вера очень боялась Вики, но та вела себя вполне прилично. Сперва дичилась, а потом неожиданно обручнела. Разговаривала, даже улыбалась, выпуская на щеки призраки ямочек. Маргарита Антоновна — та вообще была сражена:
— Вот это мужчина! И рост, и манеры... Рука, седина... О боже, верни мне мои пятьдесят лет...
А еще через день Сергей Павлович улетел: кончилась его командировка...
Жил он постоянно в Москве, где была у него квартира, больная жена, взрослые дети — сын и две дочери — и четверо внуков. Квартира — огромная, старомодная, с дворцово-высокими потолками, без современных удобств, в когда-то роскошном купеческом доме. Лепнина на потолках (какие-то амуры в овалах), но протекающая от ветхости крыша — когда шли по лестнице, вверху светилось небо. Квартира была как-то глупо спланирована, вся вокруг ванной и уборной (пройти туда можно было не иначе, как через чью-нибудь комнату). Несмотря на огромную площадь, она была тесна для разросшейся недружной семьи. Разменять ее на две меньшие было практически невозможно, построить кооперативную — тоже (свыше ста метров жилой площади!). А он, хозяин всех этих метров, жил как-то сбоку, притулясь в одной из проходных комнат, через которую каждое утро проплывала для своих омовений толстая невестка в бигуди. Одинокий, неухоженный, он сам готовил себе еду (пельмени, сосиски — что попроще), даже сам стирал себе носки, трусы и майки, выжимая белье, как это делают мужчины, не крутящим, а прямым движением сильных рук. Дочери были ученые, злые, неопрятные, одна инженер, другая — физик. У инженера муж когда-то был, но ушел, бросив ее с двумя детьми, а физик до сих пор пребывала в девичестве. Сын, недоучившийся, по профессии фотограф, был полностью под башмаком у толстой своей жены, страстью которой было считать деньги в чужих карманах. Свекра она терпеть не могла, считала сквалыгой и жмотом и, проходя через его комнату, брезгливо оттопыривала мизинец. Сергей Павлович зарабатывал немало, но вечно был без денег: половина зарплаты шла сиделке, ходившей за больной и требовавшей, чтобы ее кормили. Другая, как это бывает, уходила сквозь пальцы, превращаясь в засохший хлеб, скисшее молоко и книги, книги...
Как ему не хотелось туда возвращаться! Прощались они с Верой на аэродроме, возле низкого модернового стеклянного здания с ходившими туда-сюда огромными дверями. Люди, люди — и зажатая среди них любовь... Пора, уже объявили посадку...
— До встречи, любимая, — сказал он, целуя ее на прощанье.
Они еще только целовались — не более, и о большем не помышляли. В этом что-то общее между ранней юностью и ранней старостью — там и там платонизм.
И вот пошли-потекли годы Вериной ранней старости, ее первой настоящей любви. Любовь была такая настоящая, что Вера даже стала равнодушна к словам. И без них все было ясно ей и ему. Они любили друг друга со всей нежностью много испытавших, помнящих о смерти людей. С благодарностью судьбе за каждый дарованный им день. С сознанием, что каждая встреча, возможно, будет последней. Целиком открытые друг для друга, со всеми своими «всячинками», как они выражались. Делились каждой мыслью, каждой радостью, каждым рублем. Оба, стесненные в средствах, счастливы были делать друг другу подарки. Нежно поздравляли друг друга с праздниками, с днями рождения, с годовщиной встречи... Восстановили в правах даже именины, чтобы чаще можно было поздравлять. Писали друг другу длинные письма, без конца их перечитывали, целовали. Да, целовали письма — глупые старые люди. Сергеи Павлович приезжал нечасто — раза три-четыре в год — и всегда останавливался прямо у Веры. По-семейному. И впрямь стал он подлинным членом семьи. Все в доме привыкли к нему и его полюбили. И Маргарита Антоновна, и сатаненок Вика. Даже кот, Кузьма энный (Вера давно уже перестала нумеровать представителей котовой династии), — и тот терся о черные морские брюки и всем своим гордым существом выражал преданность... И сам Сергей Павлович полюбил всех в доме, включая Кузьму. Что касается Веры, то ее он обожал безмерно. Стоило видеть выражение его глаз — молящихся, — которыми он ее провожал, ласкал, лелеял... И особой любовью любил он дом как таковой. Все, в чем отказала ему судьба — уют, заботу, преданность, — он находил здесь. Не мрачную, жертвенную преданность, а светлую, веселую, мастером которой была Вера. «Ведь я эгоистка, — говорила она, — жертвовать собой не умею»... Как чудесно было, придя с работы, войти в уютную комнату, пахнущую цветами. Сесть за нарядный стол, накрытый вышитой скатертью со свежими, еще не расправленными складками от утюга. Погрузить ложку в сияющий, прозрачный бульон. Закусить пирожком, тающим во рту и выдающим нежный секрет своей начинки... Во всех этих вещах для усталого, заброшенного, немолодого человека было далеко не просто служение телу. Если уж служение, то какому-то древнему богу семейного очага... После обеда Сергей Павлович читал газету, неторопливо переворачивая листы, а Вера сидела рядом: шила, либо чинила носки (он уже давно забыл, что носки вообще чинят), либо тоже читала, но погружаясь в книгу не целиком, а только частью внимания, как спящая мать не целиком спит, готовая в любую минуту встать к своему ребенку... «Дай руку», — говорил иногда Юрлов, и она протягивала ему руку, не слишком-то нежную, довольно крупную, и он целовал ее в ладонь, переходя от бугорка к бугорку... Верины мозоли безмерно его умиляли.
А вот с Маргаритой Антоновной у Сергея Павловича был роман — иначе не скажешь. Вели она долгие беседы, прямо-таки флиртовали. Маргарита Антоновна бурно выказывала свое восхищение (она вообще чувства свои проявляла бурно) и без взаимности не оставалась. Разговор их был как теннисный матч: реплика за репликой, реприза за репризой. Мяч, мяч, еще мяч, отдан, отдан, превосходно, аут! И оба смеялись. Сергей Павлович красовался, веером распустив свой павлиний хвост. Вере иногда даже становилось обидно, что он красуется не перед ней, она говорила: «Сереженька, я тоже хочу хвост!» — «Глупая, — отвечал он, — перед тобой мне его распускать незачем. Все равно что перед самим собой». — «А распускать непременно надо?» — «Непременно, а то атрофируется». — «И женщине тоже?» — «Ну нет, хвост, как известно, только у павлина. У павы его нет».
А с Викой Сергей Павлович подружился совсем по-особому. Ему одному девочка поверяла свои сердечные тайны. Чтобы побыть наедине, без тетушек, они шли куда-нибудь в ресторан (это у них называлось «прожигать жизнь»). Впрочем, прожигали более чем скромно. Вика терпеть не могла лишних расходов, заказывала какие-нибудь сосиски с картофельным пюре, бутылку фруктовой воды, иногда — пирожное. Сидели долго, невзирая на гневные взгляды официанток. Под звуки ресторанной разухабистой музыки, под шарканье ног танцующих так хорошо говорилось! Вика ощипывала рукава своего платьица (все на ней, многократно стиранное, всегда выглядело тесновато и маловато, словно она его донашивала после младшей сестры). Закуривала папиросу и, сделав пару затяжек, сминала в пепельнице — все это нервными, куда-то летящими движениями...
Однажды, вернувшись из ресторана, она нехотя попросила:
— Тетя Вера, сшейте мне, так и быть, новое платье.
— Да ну?!
— Это я не для себя, — свирепо пояснила Вика, — а для дяди Сережи, чтобы ему не стыдно было ходить с такой замарашкой.
— Ты не замарашка, ты Золушка, — сказала Маргарита Антоновна, — и вот увидишь, случится чудо, добрая фея пришлет за тобой карету из тыквы, запряженную шестеркой...
— Мышей, — перебила Вика, — которые так мышами и останутся.
...Платье было сшито, и очень удачное — васильковое, со звездным узором, и Вика была в нем такая красивая, что даже сама на себя в зеркале не сердилась...
Приезды Сергея Павловича были всегда праздниками в доме. Увы, они быстро кончались. Со своей всегдашней привычкой всюду видеть светлые точки, Вера и здесь ухитрялась себя утешать: «Праздники тем и хороши, что редки. А кто знает, сумели бы мы их сохранить, если бы всегда жили вместе? И в конце концов, я сама себе выбрала такую, как говорится, личную жизнь...»
И еще у них бывали праздники... Раз в году, в свой очередной отпуск, обычно зимой (мертвый сезон в гостинице), Вера сама приезжала в Москву. Останавливалась она не у сестры Жени (та с годами стала ханжой и Вериного поведения не одобряла), а у своей давней приятельницы, генеральши Ивлевой, сыновья которой, Пека и Зюзя, ходили у Веры в приемных племянниках. Марья Ивановна, слава богу, не изменилась, только еще пуще растолстела и трагически это переживала («Знаешь, Вера, в одной английской книге сказано, что в каждом толстом человеке сидит тонкий и плачет!»). Верина беспечная жизнерадостность ее восхищала и поздний роман — тоже («А я-то, дура, всю жизнь ухлопала на этих оболтусов!»).