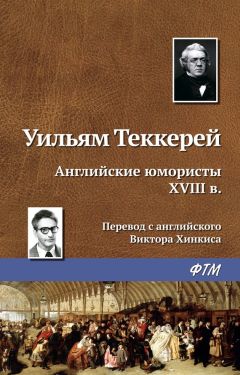Но, право же, если придавать хоть какое-то значение национальности, мы должны считать англичанином человека, чей отец происходил из древнего йоркширского, а мать - из древнего лестерширского рода!
** Его манера разговаривать во многом походила на стиль его сочинений, сжатый, четкий и энергичный. Однажды, когда он был на приеме у шерифа и тот, среди прочих тостов, провозгласил: "Господин настоятель, выпьем за ирландскую торговлю", - он быстро ответил: "Сэр, я не пью за покойников!"
В его присутствии один дерзкий молодой человек, который гордился тем, что говорил дерзости... воскликнул: "Да будет вам известно, господин настоятель, что я возвысился своим остроумием!" - "Вот как, - сказал Свифт. - Послушайте же моего совета, снизьтесь!"
В другой раз, увидев, как одна дама длинным шлейфом (какие были тогда в моде) смахнула хрупкую скрипку и разбила ее, Свифт воскликнул:
"Mantua, vae miserae nimium vicina Cremonae!" {"Мантуя, увы, слишком близкая соседка несчастной Кремоны"! (лат.).}. - Д-р Делана, "Замечания по поводу "Заметок и т. д. о Свифте лорда Оррери", Лондон, 1754.}
И вот Свифт, посвященный в тайны политики, прекрасно знающий деловые отношения и светскую жизнь, не чуждый также литературе, которой не мог заниматься всерьез, когда с безрассудным упорством пытался выдвинуться в Дублине, вошел в дом сэра Уильяма Темпла. Впоследствии он любила рассказывать, какое множество книг он там прочитал и как король Вильгельм научил его резать спаржу на голландский манер. Великий и одинокий Свифт провел десять лет ученичества в Шине и Мур-Парке, получая двести фунтов жалования и обедая со слугами, - он носил сутану, которая была не лучше ливреи, и гордый, как Люцифер, преклонял колена, дабы вымолить какую-нибудь милость у миледи, или выполнял поручение господина, у которого состоял на посылках *. Именно здесь, когда он писал, сидя за столом Темпла, или сопровождал своего покровителя во время прогулок, он увидел людей, вершивших судьбы общества, услышал их разговор, сравнил себя с ними, молча поглядывая из своего угла, прикинул, много ли у них мудрости и остроумия, вертел их так и сяк, испытывал и оценивал. Ах, какие пошлости ему, должно быть, приходилось выслушивать! Какие плоские шутки! Какие напыщенные банальности! Какими ничтожными казались, вероятно, эти люди в огромных париках смуглому, нескладному, молчаливому секретарю из Ирландии. Не знаю, приходила ли когда-нибудь Темплу в голову мысль, что, в сущности, этот ирландец - его хозяин. Полагаю, что столь печальный вывод не возник под его божественным париком, иначе Темпл не стал бы терпеть Свифта у себя в доме. Свифт, чувствуя, что ему все опротивело, поднимал бунт и уходил со службы, но потом покорялся и возвращался снова; так продолжалось десять лет, - он набирался знаний, скрывая презрение и терпел, втайне злобствуя на судьбу.
{* "Помнишь, как я страдал, когда сэр Уильям Темпл бывал холоден или в дурном расположении духа дня три или четыре подряд, и я терялся в догадках, перебирая десятки причин? Клянусь, с тех пор я стал более дерзким; он испортил хорошего и благородного человека". - "Дневник для Стеллы".}
Манеры Темпла - это воплощение изощренного и естественного хорошего тона. Если он и не вникает в суть дела достаточно глубоко, то все же выказывает осведомленность, подобающую джентльмену; если он порой щеголяет латынью, то ведь это было принято в его время, подобно тому, как было принято благородному человеку напяливать на голову парик, а на руки кружевные манжеты. Если он носит букли и туфли с квадратными носами, то ходит в них с непревзойденным изяществом, и вы никогда не услышите, как они скрипят, не увидите, как они наступят на шлейф какой-нибудь леди или на ногу сопернику в толпе придворных. А когда там становится слишком жарко и шумно, он вежливо удаляется. Он уезжает к себе в Шин или в Мур-Парк, предоставив королевской партии и партии принца Оранского бороться меж собой и решить дело. Он чтит монарха (и, пожалуй, ни один человек на свете не выражал свои верноподданнические чувства столь изящным поклоном); он в восторге от принца Оранского, но есть человек, чье спокойствие и удобства для него важнее всех принцев на свете, и этот достойнейший член общества - не кто иной, как Gulielmus Temple, baronettus {Уильям Темпл, баронет (лат.).}. Вот он в своем тихом убежище; мы видим его то в креслах, когда он предается своим занятиям, то у грядок тюльпанов *, вот он обрезает абрикосовые деревья или правит свои сочинения - он уже не государственный деятель, не посол, а философ, эпикуреец, блестящий аристократ и придворный равно в Шине и в Сент-Джеймсе; здесь вместо королей и красивых дам он преклоняется перед его величеством Цицероном, или проходит в менуэте с музой эпической поэзии, или же любезничает у южной стены с розовощекой дриадой.
{* "...эпикурейцы выразились точней и удачней, когда провозгласили, что счастье человека в невозмутимости "то души и праздности тела; ибо в то время как мы располагаем обоими этими условиями, я сомневаюсь, что то и другое должно участвовать в нашем восприятии добра и зла. Подобно тому, как люди, говорящие на нескольких языках, выражают одно и то же разными словами, так в различные эпохи, в различных странах с различными законами и религиями разные слова означали одно и то же: то, что стоики называют бесстрастием или рассеянием, скептики - невозмутимостью, молинисты - квиетизмом, простые люди - спокойной совестью, как мне кажется, означает лишь величие. Но этой причине Эпикур всю жизнь провел в своем саду: там он занимался науками, там трудился, там проповедовал свою философию; и в самом деле, никакой иной приют, пожалуй, не способствует столь много невозмутимости души и праздности тела, которые он считал главной своей целью. Дивный воздух, чудесные ароматы, зелень листвы, свежесть и легкость пищи, трудовые упражнения или прогулки, но главное, освобождение от забот и треволнений в равной мере благоприятствовали и способствовали размышлениям и здоровью, приятности чувств и воображения, и тем самым спокойствию и легкости тела и души... Люди много спорили о том, где был рай, но так ни до чего и не договорились; пожалуй, легче представить себе, какого рода место подразумевается под этим словом. Слово "рай" персидское, так как Ксенофонт и другие греческие авторы называют им то, что часто употребляли и любили государи этих восточных стран. Страбон, описывая Иерихон, говорит:
"Ibi est palmetum, cui immixtae sunt etiam aliae stirpes hortenses, locus ferax palmis abundans, spatio stadiorum centum totus irriguus, ibi est Regis Balsami paradisus" {Там есть пальмовая роща, в которой попадаются некоторые другие садовые деревья, место плодородное, изобилующее пальмами, длиной в сто Стадиев и обильно орошаемое, там находится сад царя Бальзама (лат.).}. - "Эссе о садах Эпикура".
В этом же знаменитом эссе Темпл пишет об одном друге, чьим поведением и благоразумием он восхищается в характерной для него форме.
"...я считаю весьма благоразумным, что один мой друг в Стаффордшире, который очень любит свой сад, выращивает в нем великолепные сливы и, хотя почва там хорошая, не претендует на большее; в этом (обнеся деревья с юга стеной) он весьма преуспел, чего никогда не достиг бы, имея дело с персиками и виноградом; _а хорошая слива, без всякого сомнения, лучше плохого персика_".}
Темпл, видимо, требовал и получал от своих домочадцев обильную дань преклонения, все вокруг льстили ему, лебезили перед ним и холили его так же старательно, как растения, которые он любил. В 1693 году, когда он заболел, его недомогание повергло в ужас весь дом; нежная Доротея, его жена, лучшая подруга лучшего из мужчин:
Великая душою Доротея
Узрела грозный перст судьбы, робея.
Что касается Доринды, его сестры:
Кто грусть изображать в искусстве станет
Пусть на Доринду плачущую глянет.
Утратит радость каждый, кто на миг
Узрит ее пронзенный скорбью лик,
Лакеи плачут и рыдают слуги
О ней, животворившей все в округе.
Вам не кажется, что в строке, где скорбь одолевает лакеев, содержится прекрасный образ? Ее сочинил один из лакеев, которому не по нутру была и ливрея Темпла и жалование в двести фунтов. Как легко представить себе нескладного молодого служителя с потупленными глазами, который, держа в руке книги и бумаги, следует по пятам за его честью во время прогулки по саду или выслушивает распоряжения его чести, стоя у глубокого кресла, в котором сэр Уильям сидит, страдая подагрой, и ноги его все в волдырях от прижиганий. Когда у сэра Уильяма приступ подагры или он не в духе, плохо приходится слугам за обедом; * впоследствии его секретарь из Ирландии сам об этом поведал: как, должно быть, сэр Уильям, выходя к столу, ворчал, мучил и терзал домашних своими насмешками и презрением! Представьте себе только, что говорил дворецкий о гордости всяких ирландских грамотеев - а ведь этого, по правде сказать, не слишком высоко ставили даже в ирландском колледже, где он учился, - и какое презрение должен был испытывать камердинер его превосходительства к священнику Тигу из Дублина! (Камердинеры и духовники всегда воевали меж собой. Трудно сказать, кто из них, по мнению Свифта, более заслуживал презрения.) И каковы, вероятно, были горе и ужас маленькой дочери экономки с черными завитушками волос и милым, улыбчивым лириком, когда секретарь, учивший ее грамоте, человек, которого она любила и почитала больше всех на свете, - больше матери, больше нежной Доротеи, больше рослого сэра Уильяма в тупоносых туфлях и парике, - когда сам мистер Свифт выходил от своего хозяина с яростью в душе и не мог найти доброго словечка даже для маленькой Эстер Джонсон?