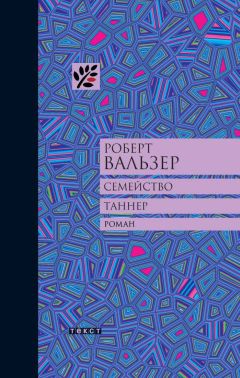— Я ищу комнату.
Симон снял шляпу перед красивой дамой, которая внимательно разглядывала своего гостя. Ему понравился ее внимательный взгляд, ведь он чувствовал, что она имеет на это право, и видел, что дружелюбности у нее не убывает.
— Проходите, пожалуйста! Сюда! Вверх по лестнице.
Симон пропустил даму вперед. И при этом впервые в жизни сделал рукою соответственный жест. Дама, отворив дверь, показала молодому человеку комнату.
— Какая прелестная комната! — воскликнул Симон с искренним удивлением. — Слишком хороша для меня, к сожалению. Слишком изящна. Должен вам сказать, я мало подхожу для такой изысканной комнаты. А все же с удовольствием бы здесь поселился, с большим, с превеликим удовольствием. Вообще-то напрасно вы мне ее показали. Лучше бы сразу выпроводили за порог. Смею ли я бросить взгляд в столь радостную, красивую комнату, будто предназначенную для божества? Этакие красивые жилища под стать людям обеспеченным, имущим. А я никогда ничего не имел, никем не стал и, несмотря на надежды родителей, не стану. Какой чудесный вид из окна, какая красивая, блестящая мебель, какие прелестные шторы, придающие комнате что-то девичье. Здесь я бы, наверно, стал добрым, чувствительным человеком, коли верно говорят, что обстоятельства способны изменить человека. Можно мне еще немного полюбоваться, постоять еще минутку?
— Конечно, можно.
— Благодарю вас.
— Чем занимаются ваши родители и, с вашего позволения, в каком смысле вы «никто», как вы изволили выразиться?
— Я без места!
— Мне это совершенно безразлично. В том-то и дело!
— Нет, надежды у меня мало. Хотя, сказать по правде, так тоже говорить не след. Я полон надежды. Она никогда меня не покидает… Батюшка мой человек бедный, но жизнерадостный, у него и в мыслях нет сравнивать нынешние скудные дни с давним блеском. Он живет как двадцатипятилетний юноша и вовсе не задумывается о своем положении. Я им восхищаюсь и стараюсь ему подражать. Коли он в своем убеленном сединами возрасте способен быть бодрым, то его молодой сын стократ обязан не вешать голову и смотреть на людей ярким, как молния, взглядом. Но от маменьки мне, а еще больше братьям досталось в дар множество помыслов. Маменька-то умерла.
Любезная дама, стоявшая рядом, сочувственно ахнула.
— Она была женщина добросердечная. Мы, дети, без устали вспоминаем ее, когда бы и где бы ни встречались. Жизнь разбросала нас в разные концы этого просторного большого мира, и очень хорошо, ведь все мы, знаете ли, таковы, что подолгу нам вместе быть негоже. Характер у нас у всех довольно тяжелый и был бы помехой, если бы мы разом являлись среди людей. Слава Богу, мы этого не делаем, и каждый из нас точно знает, отчего мы этого не желаем. Но мы любим друг друга, как подобает. Один из моих братьев — ученый, причем небезызвестный, второй — специалист в биржевом деле, третий — просто мой брат, так как я люблю его в первую очередь как брата и при мысли о нем мне в голову не приходит подчеркивать в нем что-то другое, кроме обстоятельства, что он мне родственник и выглядит именно так, вот и все. Вот сообща с этим братом я бы охотно у вас поселился. В комнате места вполне бы хватило. Только вряд ли получится. Какова плата за комнату?
— Кто ваш брат по профессии?
— Художник-пейзажист! Так сколько вы хотите за комнату?.. Так много? За эту комнату, конечно, не чересчур, но нам совершенно не по карману. А коли я хорошенько подумаю да внимательно на вас посмотрю, то мы двое все же не годимся в жильцы этого дома. Очень уж неотесанные, разочаруем вас. Вдобавок привыкли весьма бесцеремонно обходиться с постельным бельем, мебелью, умывальными принадлежностями, оконными шторами, дверными ручками, лестничными площадками, вас это приведет в ужас, рассердит, хотя, быть может, вы нас простите, постараетесь не придираться, а это еще более унизительно. Мне бы не хотелось давать вам повод к будущим неприятностям. Да-да! Не протестуйте, пожалуйста. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. В сущности, нам изрядно недостает уважения к тонким материям. Людям вроде нас должно стоять у садовых оград богатых домов, где им дозволено отпускать насмешливые замечания насчет блеска и аккуратности. Мы насмешники! Прощайте!
Глаза красивой дамы неожиданно заблестели, и она сказала:
— Все же я хочу сдать комнату вам и вашему брату. О цене мы как-нибудь договоримся.
— Нет-нет, лучше не надо!
Симон уже спускался по лестнице. И тут дама крикнула ему вдогонку:
— Будьте добры, погодите! — Она поспешила за ним. Догнала его внизу, остановила и принудила выслушать ее: — Что это вы так заторопились? Видите ли, я хочу, да, хочу, чтобы вы оба поселились у меня. Даже если не станете платить! Какое это имеет значение? Никакого, совершенно никакого, идемте же, идемте. Войдите со мной в эту комнату. Мария! Где ты? Принеси кофе!
В комнате она сказала Симону:
— Я желаю ближе познакомиться с вами и с вашим братом. А вы едва не убежали прочь. Как вы только могли! Часто мне так одиноко в этом уединенном доме, что я дрожу от страха. Муж мой вечно в отъезде, в дальних странствиях, он ученый, бороздит моря, о самом существовании которых его бедняжка жена понятия не имеет. Ну разве я не бедняжка? Как вас зовут? И как зовут вашего брата? Мое имя — Клара. Называйте меня просто госпожа Клара. Мне приятно слышать это простое имя. Теперь вы чуть менее недоверчивы? Я была бы очень-очень рада. Вам не кажется, что мы вполне сможем жить бок о бок и хорошо ладить? Конечно же все получится. По-моему, вы человек мягкий, деликатный. И мне не страшно поселить вас в моем доме. У вас честные глаза. Ваш брат старше, чем вы?
— Да, он старше и куда лучше меня.
— Вы славный человек, коли можете так говорить.
— Меня зовут Симон, а брата — Каспар.
— А моего мужа зовут Агаппея.
При этих словах она побледнела, но быстро взяла себя в руки и улыбнулась.
Брату Каспару Симон написал вот что: «Все же мы с тобой чудаки. Скитаемся по земле так, будто одни только мы на ней и живем, а больше никто. И дружбу-то свели какую-то сумасбродную, будто среди мужчин не найдется более никого, кто бы заслуживал называться другом. В сущности, мы вовсе не братья, а двое друзей, какие порой встречаются в этом мире. На самом деле я не создан для дружбы и сам не пойму, какая такая необычайность твоей персоны снова и снова заставляет меня мысленно переноситься к тебе, быть рядом с тобой. Твоя голова кажется мне уже чуть ли не моею собственной, вот сколько места ты занимаешь в моих помыслах; еще немного — и я, глядишь, стану браться за всё твоими руками, ходить на твоих ногах и есть твоим ртом. В нашей дружбе явно есть что-то загадочное, ведь должен сказать, отнюдь не исключено, что, в сущности, сердца наши стремятся прочь друг от друга, да только не могут расстаться. И я очень даже рад, что ты пока этого не можешь, ведь письма твои звучат весьма мило, и мне самому покуда хочется оставаться в плену означенной загадочности. Для нас-то этак хорошо, ах, да можно ли выражаться столь сухо! Если честно, то, по-моему, просто восхитительно. Почему бы двум братьям не поломать рамки. Мы вполне под стать один другому и всегда были под стать, даже когда терпеть друг друга не могли и едва не передрались до смерти. Помнишь? Достаточно этого возгласа, сдобренного порцией здорового смеха, чтобы всколыхнуть в тебе, склеить, нарисовать, сброшюровать картины, которые поистине более чем достойны воспоминания. Не помню уже, по какой причине, но мы сделались смертельными врагами. О, мы умели ненавидеть. Наша ненависть была невероятно находчива в выискивании мук и унижений, каким мы подвергали друг друга. Как-то раз за обедом — приведу хотя бы один пример этого плачевного и ребячливого состояния — ты, поскольку иначе не мог, бросил мне тарелку квашеной капусты и вскричал: «Лови!» Должен тебе сказать, я тогда дрожал от ярости, уже оттого, что тебе представилась прекрасная возможность самым жестоким образом оскорбить меня, а я в ответ ничего сказать не умел. Я поймал тарелку и по глупости испил чашу оскорбления сполна. А помнишь, как однажды в полдень, тихий, знойный летний полдень, совершенно шальной от безмолвия, я нерешительно зашел к тебе на кухню и попросил вновь относиться ко мне по-доброму. Признаюсь, мне стоило невероятных усилий преодолеть себя и, победив чувство стыда и гордыню, прийти к тебе, недругу, исполненному презрительного неприятия. Я это сделал и благодарен себе, что сделал. Благодарен ли мне ты, не имеет ни малейшего значения. Оценить это могу только я. Уходи прочь, незачем меня перебивать. Да что ж это такое! Прочь!.. Сколь же много чудесных часов я с той поры провел с тобою. Неожиданно нашел тебя славным, любящим, заботливым. По-моему, радостное блаженство пылало на щеках у нас обоих. Мы с тобой — ты как художник, я как зритель и комментатор — бродили по лугам на широких горных склонах, купаясь в благоухании трав, в росе свежего утра, в зное полудня, во влажном, влюбленном солнечном закате. Там, наверху, деревья наблюдали за нами, а тучи сгущались, конечно же от досады, что не в их власти разрушить нашу новоиспеченную любовь. Вечером мы возвращались домой, вконец разбитые, запыленные, изголодавшиеся и утомленные, а потом ты вдруг уехал. Черт знает почему, но я еще и помогал тебе с отъездом, будто меня обязывали к этому карманные деньги или мне не терпелось спровадить тебя с глаз. Конечно, я искренне радовался, что ты уезжаешь, ведь перед тобою открывался большой мир. Но как же невелик этот большой мир, братец.