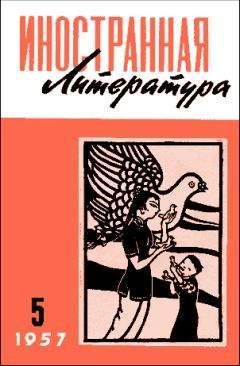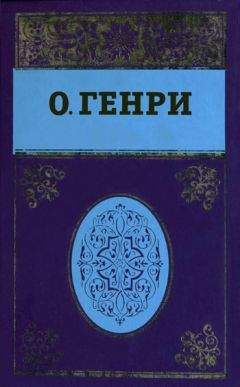— Ты мою мать не тронь!
— Да что там мать! Даже бабка твоя не умела варить уху. И бабушка, и прабабушка, и прабабушкина бабушка, и то не умела! — продолжал привязываться Михай.
Ошеломленная молодушка стояла и только озиралась вокруг, чем бы запустить в голову возлюбленного муженька.
А тот хладнокровно поддел складным ножом добрый кусочек рыбы и сунул в рот.
— Это разве рыба? — пыхтел он, набив рот. — Рыба? Пра-пха-пре! — и поперхнулся.
В горле у него застряла косточка, он начал кашлять, крякать и чихать, как кошка. Бросил нож, ложку, вскочил и заплевал всю комнату. Только этого и надо было молодице. Она залилась смехом и, шатаясь от хохота, падала то на стол, то на кровать.
Наконец Михай с грехом пополам пришел в себя, утер слезы, разок-другой прочистил глотку и хрипло простонал:
— Смеешься? Стало быть, смеешься? Над мужем своим смеешься? Уху сварить не умеешь, только смеяться горазда? И чтоб я жил с такой бабой? Никогда! Чтоб я мучился с тобой? Да ни за что! Есть у меня два вола, телега, новая одежа — все это мое. Заберу с собой, а ты подыхай здесь одна. Что настряпаешь, то и слопаешь.
Он схватил с кровати сермягу и вышел. Вывел из стойла двух низкорослых волов, запряг, бросил сермягу на телегу, сам сел сбоку и, не говоря ни слова, выехал со двора. Даже ворота не запер за собой.
Молодица стояла у окна, но, увидев рассерженное лицо мужа, снова залилась смехом так, что не могла даже слова вымолвить.
А два низкорослых вола шагали, шагали себе по деревне. Возле школы свернули на Кородскую дорогу и, потихоньку выехав к кукурузному полю, поплелись до большого орехового дерева.
— Стой! — крикнул Михай. Ему, очевидно, что-то на ум пришло. — Беда!
Он окликнул волов, повернул их обратно и даже объяснил им почему:
— Печку-то ведь я сложил — я и сломаю!
И поехал обратно. Приплелся на двух волах. Ворота все еще стояли настежь. Ох, и злость же его взяла! Жена и вправду порядка не знает, даже ворота не замкнет после мужа. Ну, не беда, сейчас все одно. Он так и так не станет в них въезжать. Остановился перед домом, соскочил с телеги, зашел во двор, а со двора в сад. Там среди слив, под плетеным навесом, стояла печка, которую он сам сложил. Он завалил бок печки и, как человек, славно справившийся со своей работой, вышел на улицу. Вскочил на телегу и уехал — теперь уж навеки.
Когда он с двумя маленькими своими волами прибыл в родительский дом, вечерняя звезда стояла уже высоко.
— Ты как сюда попал? — накинулись на него. — Жена прогнала? Говорил я, что она чересчур бойка! Ну, сынок, быстро твоя служба закончилась! Стоило из дому уезжать! Всего неделю только и пожил с женой?
Так подтрунивали, подсмеивались над ним отец, мать и братья.
Михай крутил так и сяк, но не говорил о том, что случилось и почему он бросил жену.
— Характером не сошлись, — пробормотал он, когда пришлось все же признаваться. — С меня довольно.
— Ладно, сынок, ты ведь дома. Для тебя тут всегда место найдется, — сказала мать. Она, словно добрая наседка, рада была видеть всех детей возле себя; без Михая она все глаза проплакала, печалясь, что судьба его так далеко занесла: ведь пешком до них полчаса ходу, а на телеге с волами и вовсе три часа, потому что надо объезжать Халваньское болото.
Михай не хотел и самому себе признаться, что под добрым старым отчим кровом он уже не чувствовал себя, как дома.
Но когда вошел в стойло и привязал волов на прежнее место, он похлопал их по крупам и сказал:
— Не беда! Печку я все-таки сломал!
Прошел день, два, неделя. Все уже привыкли к тому, что все идет по-старому, и все как будто хорошо, только Михаю то одно, то другое не по нраву... Он уже привык быть хозяином, командовать хорошенькой молодушкой, как ему вздумается, а тут вдруг опять стал холостым парнем и попал под власть отца. Он уже привык и к вкусной еде, ведь как жена старалась состряпать получше, угодить мужу, старалась, чтоб ему полюбилась еда, — а теперь живи опять на тощих материных харчах. В доме вот сколько ртов, каждому понемногу достается. А хуже всего, что опять пришлось ночевать в хлеву вместе с братьями-горлопанами, на жесткой, кривой плетеной скамье. Ляжешь на нее и даже представить себе не можешь, что где-то любовно ждет тебя мягкая, теплая перина.
Словом, в субботу на заре Михаю вдруг что-то пришло на ум.
— Стой! — сказал он. — Беда!
Он кликнул тут же волов, запряг их в телегу. Даже сермягу кинул на телегу. Ему было немного стыдно перед мирными животными, боязно, а вдруг они превратно поймут его (ведь, кроме них, вокруг никого не было), поэтому он начал им объяснять:
— Поедем обратно, малышки! Надо печку починить, а то жене не в чем будет в понедельник хлеб испечь.
Волы, очевидно, одобрили его решение, ибо тут же тихо поплелись по пыльной дороге... Да и вправду в понедельник пекут хлеб, так оно заведено у каждой доброй хозяйки.
Ворота уже не стояли настежь, заботливо были заперты и даже заложены перекладиной. Но жена увидела в окно, что хозяин приехал. Выбежала, отворила ворота, и муж молча въехал во двор.
Соскочил с телеги, пошел в сад, взялся глину месить и мешать со стеблями подсолнечника.
К полудню управился. Хорошо сложил печку, даже сам удовлетворенно замотал головой. «Вот сложу еще несколько раз, — подумал он, — и любого цыгана переплюну».
Из сада он вышел во двор.
Но волы уже стояли в стойле, и сермяги не было в телеге.
Жена шла ему навстречу как ни в чем не бывало.
— Муженек, пойдемте-ка в дом. Уха на столе...
Михай почесал голову под шляпой и посовестился что-либо сказать.
Вошел, сел к кастрюльке и отведал уху.
— О! — сказал он. — Вот это дело другое! Это мне по душе! Видишь, голубка!..
И молодица, тихо, ласково улыбаясь, смотрела, с каким удовольствием ест ее муженек. Ждала, что оставит он ей от превосходной ухи. Коли не оставит, и то не беда! Кушай, дружок, на здоровье, кушай уху, да не бегай из дому!
А Михай глотал рыбку, как цапля. Ничего не скажешь — что хорошо, то хорошо!
1909.
Узорчатый шелковый платок
Маленькая горбунья Верон все вертелась у ворот дома Дюри Варги. Сынишка хозяина скакал по снегу на дворе. Увидев горбунью, он закричал:
— Кыш-ш отсюда, вонючка!
Верон и с места не сошла, только поманила его рукой.
Мальчишка вышел за ворота с кнутиком в руке и ударил им горбунью.
— Вон! — крикнул он, отлично зная, что обижать Верон дозволено. Мать намедни тоже надавала Верон пинков и оплеух, когда она приходила звать отца к бабушке.
Верон показала красивое мороженое яблоко.
Мальчик притих, точно собака, которая скалилась, скалилась и вдруг завидела кость.
— Где отец? — спросила Верон.
Парнишка догадался, что ответ на этот вопрос и есть плата за яблоко. Он призадумался, потом, быстро оглянувшись на дверь в кухню, спросил:
— Отдашь?
— Отдам.
— Он в сарае, на задах.
И мальчик схватил горбунью за руку, чтобы отнять свою, теперь уже законную добычу. Но Верон не отдавала.
— А где мать?
— В хате. Сейчас же отдай!
Верон отдала яблоко. Мальчишка повертел его в руке, надкусил и, забыв обо всем на свете, запрыгал на одной ножке, посапывая покрасневшим носом и чавкая.
— Я пойду к тетке Юльче! — сказала горбунья и, ковыляя, вошла в соседние ворота, но в дом и не заглянула. Торопливо пройдя через двор и через сад тетки Юльчи, она огородом, мимо забора, повернула во двор Дюри Варги, в стоявший на задах сарай.
Многим, многим уловкам научили Верон ее горб и искалеченная, непригодная к работе правая рука. Трудно было обмануть ее. Да и не хотелось ей больше получать оплеухи, как на прошлой неделе.
Горбунья, крадучись, вошла в сарай. Дюри Варга трудился в поте лица над каким-то бревном и заметил девочку только тогда, когда она остановилась у него перед самым носом.
— Чего тебе? — накинулся он на нее.
— Тетушка послала... — заговорила девочка. — «Ступай, говорит, Верон, к сыну и передай: хочется ему или нет, но чтоб обязательно пришел. Мне нужно сказать ему что-то важное, очень важное».
Варга не сразу ответил. Поплевав себе на ладони, взял топор и снова принялся тесать бревно; из него могла выйти и балка, и полоз для саней.
Не прерывая работы, Варга бросил:
— Скажи, что приду.
Девочка, не проронив ни слова, повернулась и вышла. А Дюри Варга продолжал свое дело. Да, полоз для саней выйдет!
Час спустя он положил топор, стряхнул стружки и сор, надел полушубок и тронулся в путь. Не сказавшись домашним, он вышел прямо на улицу и зашагал в село.
Возле деревянной колокольни он свернул к стоявшей неподалеку лачужке. Там и была усадьба его родителей. Здесь он рос, в этой лачуге, в этом ласточкином гнезде, и вырос прожорливым коршуном, мужем кулацкой дочки, решительным, ни перед чем не останавливающимся, предприимчивым хозяином. Тогда-то и зародилась вражда между его женой и матерью.