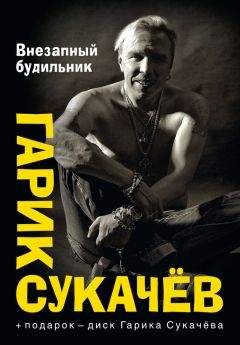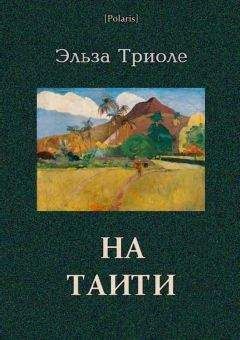Карманные деньги! Через несколько месяцев она зарабатывала уже сотни и тысячи. В одной фирме, торгующей обоями. Вот так так! Однако в лицей я не вернулся, я пристрастился к своим трудам.
Для историка у меня катастрофически неподходящий образ мышления: как и многие другие, я не верю в возможность установить историческую правду. Наше прошлое не поддается проверке, а следовательно, спорно, недостоверно; всемирная история пишется, как пишут в современных газетах: даже факты — и те спорны, а уж смысл всецело зависит от того, какая газета их излагает; картина событий находится в прямой связи с тем, под каким углом журналист — или историк — их рассматривает; показания непосредственных свидетелей, даже самых честных, никогда не совпадают; в сущности, все они лжесвидетели. И тем не менее истина все же иной раз открывается в этой груде лжи, и преступника ловят с поличным. Я имею в виду обыкновенные преступления. А вот раскрыть истину мировой истории — это все равно что вое-создать картину гигантского преступления с великим множеством свидетелей, лжесвидетелей, фантазеров, доказательств, отпечатков… Даже ищейке с самым тонким нюхом не найти остывших следов, теряющихся во мраке времени; так и самые добросовестные историки не способны разобраться, кто виновен в преступлении, кто не виновен, кто жертва, кто герой и кто мученик.
А что касается воссоздания жизни страны, нравов, физического и духовного облика ее обитателей, оно фактически не отличается от театральной постановки иностранной, пусть даже современной, пьесы: тут все не так. Казалось бы, у режиссера все под рукой: жизнь в чужой стране и ее граждане, ее искусство и письменность, все нужные документы, — а все же посмотрите на француза, сыгранного американцем на американской сцене, или Азию на сцене европейской… Воображаю, как бы удивился Аристофан. Или Шекспир. Произведение искусства имеет право преследовать иную цель, кроме точности, ну, а История? Полагаю, что наше представление о прошлом в лучшем случае карикатура.
В любую эпоху для людей этой эпохи часть их прошлого представляет собой серию вопросов, на которые уже даны ответы: они знают, что сыворотка против такой-то болезни, которую давно искали врачи, будет найдена; знают, что война, которая была начата тогда-то, будет выиграна или проиграна и что победа эта уже несет в складках своей мантии поражение… Данная историку возможность рассматривать известные факты — подлинные или ложные — в ретроспективном свете позволяет ему считать себя мудрецом. На некоторое время. Если с помощью астрономии историк разоблачает выдумки астрологов, то, может статься, со временем астрономия подтвердит предсказания астрологов… Мудрость историка это всего лишь однодневка. Историческая дистанция наделяет историка задним умом, что в высшей степени пагубно для и так уже сомнительного правдоподобия истории. Каждая эпоха живет в контексте своего времени; комментарии историка тоже составляют часть эпохи, в какую они пишутся, а не той, когда комментируемые факты происходили в действительности. Наименьшее зло — когда историк ограничивается перечислением данных, имеющихся в его распоряжении, включая все те изменения, которые они претерпели в пути. Ход истории преувеличивает, искажает и одновременно уточняет ее собственные данные. Что вы, в сущности, хотите этим сказать? Что следовало бы описывать Мадлену или Екатерину II, не пользуясь объяснениями, которые зрелый ум добавляет к их прошлому? Говорить о Сопротивлении, не учитывая того света, который был брошен на него эпохой, последовавшей за освобождением, анализировать победы Наполеона, не учитывая острова Святой Елены? Ответа нет.
Писать роман о чьей-то жизни — значит пройти мимо этой жизни (мимо истории), как проходит поезд мимо ландшафта. Со всеми остановками, стрелками, семафорами, мостами, туннелями, катастрофами… Поезда ходят все быстрее и быстрее. Появились самолеты. Ракеты. Уже позади световой барьер… Публика кричит романисту: «Скорее! Скорее! Не отставай от ритма вселенной!» Сокращаются расстояния, все большие и большие пространства умещаются в том же отрезке времени — так неужели романисты будут плестись в хвосте, топтаться на одной точке, которая теперь уже с булавочную головку? Будет ли ритм романа следовать ритму человеческого сердца или ритму ракеты? Будет ли он продолжать свой путь со скоростью дилижанса от станции «Рождение» до станции «Смерть»? Успеет ли он разглядеть на ходу пейзаж, человека, поколение, эпоху, даже эру? Вот уж неважно: любая единица, любой масштаб, каковы бы ни были их размеры, будут до смешного малы. Ну что же, тогда давайте избегать гигантизма и останемся на уровне наших возможностей. Что касается меня, то я, так или иначе, предпочитаю поэтический пейзаж историческим макетам. «Великие умы» подчас сами предпочитают поэзию плохим декорациям Истории. Они говорят, что «прозрение мифологии и интуиция поэтов предвосхищают размышления философов» (Жан Пюссель «Время»).
Они говорят, что «в самом деле века и века существуют люди, чья функция заключается как раз в том, чтобы правильно видеть и заставить нас видеть то, что мы не воспринимаем сами. Эти люди — люди искусства.
…Итак, искусство, как таковое, в силах показать нам, что расширение способности восприятия вполне возможно» (Бергсон «Расширение первовосприятия»).
Мы уже в дальней части кладбища. У меня будет такая же могила, как и у прочих покойников, как у прочих трупов, у прочих скелетов. Я буду одним из них. Представляю себя то видящим все наоборот, словно строчку, отпечатавшуюся на промокашке, то видящим все снизу вверх. Корни одуванчиков, ножки кровати, фундаменты домов, причины людских поступков… Представление чисто условное, ибо понимание вещей покинет мое гниющее тело и устроится где-нибудь в другом месте. На небесах, как уверяли нас книги, воспитывавшие душу человека. Скажем, в космосе, чтобы потрафить людскому невежеству. Итак, через некоторое время я изменю точку зрения: вместо того чтобы глядеть снизу вверх, я буду с птичьего полета лицезреть нашу земную юдоль. Там, внизу. С полета ракеты. Сверху, где все сплошь темно-синее. Говорят же: витать в небесах. Ну что ж, и повитаем. Какой выглядит история, если смотреть на нее с этого уровня синевы? Не мешало бы иметь телескоп. Ах, вот тут-то я начинаю понимать, что я не романист: немедленно подавай мне точные приборы!
Увижу ли я с космических высот Мадлену и Бернара? Мне рассказывали о телефонном разговоре, состоявшемся между Надей Леже, женой Фернана Леже, тоже художницей, и ее сестрой. Надя была в Париже, сестра — в Москве. Целых сорок лет сестры не виделись, не разговаривали, а ведь нелегко восстановить по телефону порвавшуюся в столь отдаленные времена связь. И потому они говорили о живописи. «Я написала мамин портрет!» — кричала Надя, плача от волнения. «Надеюсь, не в абстракционистской манере, — кричала московская сестра, тоже заливаясь слезами, — надеюсь, нашу мамочку можно узнать…» — «Да, да, — кричала Надя, — ее совсем легко узнать, если смотреть с известного расстояния…» — «Почему я должна смотреть на нашу мамочку с известного расстояния?» — спрашивала, плача, московская сестра.
Будет ли Мадлена похожа на себя, когда я увижу ее оттуда, сверху? Или нужно смотреть на нее с известного расстояния, чтобы узнать? Почему это я должен смотреть на мою Мадлену с известного расстояния? Чтобы лучше видеть? Чтобы тебя съесть, Красная Шапочка! Разве читатель будет смотреть на то, что я пишу, с известного расстояния? С расстояния времени, истории? Некоторые рассчитывают на эту дистанцию, те, что пишут для вечности. Словами пишут.
Слова, слова… Тлен, моментальный снимок, однодневки. Пользоваться этими сборными, временными конструкциями и воображать, что они будут держаться века?! В способе общения людей произойдут изменения. Например, русский поэт Велемир Хлебников предвидел мировой язык, где каждый звук слова, а не слово целиком будет иметь значение. Его лингвистические рассуждения исходят именно из этого заумного языка:
«…эти свободные сочетания, игра голоса вне слов названы заумным языком. Заумный язык — значит находящийся за пределами разума. Сравни „заречье“ — место, лежащее за рекой, „задонщина“— за Доном. То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумом. Но есть путь сделать заумный язык разумным.
Если взять одно слово, допустим, „чашка“, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук… Но если собрать все слова с первым звуком „ч“ (чаша, череп, чан, чулок и т. д.), то все остальные звуки друг друга уничтожают, и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением „ч“. Сравнивая эти слова на „ч“, мы видим, что все они значат одно тело в оболочке другого; „ч“ — значит оболочка. И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он становится игрой на осознанной нами азбуке — новым искусством, у порога которого мы стоим.