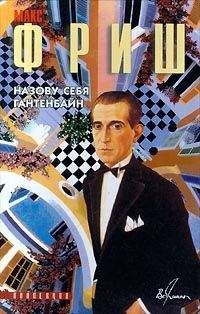В прежней своей жизни - тогда, шесть лет назад, - герой наш запутался в своих отношениях с женой Юликой и любовницей Сибиллой, разочаровался в собственном (кажется, весьма посредственном) творчестве. Но дело не только и даже не столько в этом. Он ощутил ложь, никчемность, искусственность всей жизни - окружавшей его и в нем самом происходившей. И он понял (а может, и просто почувствовал), что, живя этой жизнью или даже пытаясь ей противостоять, лишь глубже уходит в трясину; ибо, опутанный привычками и обязательствами, поступает не по собственному разумению, а в согласии с текстом чьей-то чужой трагикомедии, где ему отведена роль второстепенного действующего лица. И он бежал, разорвав прежние связи, отказавшись от привычек и обязательств, стал человеком по имени Уайт, шляющимся по Новому Свету.
Это поступок эгоцентрика, поступок труса, расхрабрившегося, так сказать, от отчаяния. И все-таки это одновременно та единственная акция, которая могла спасти Штиллера, поставив его в иные, не столь безнадежные отношения с миром. Так, во всяком случае, смотрит на дело Фриш.
Штиллер - не положительный герой. Однако, выпав из роли, эта ничем не выдающаяся личность "активизировалась". Теперь Штиллер, подобно Гансу Касторпу в "Волшебной горе" Томаса Манна, "способен на моральные, духовные и чувственные похождения, какие ему и не снились", пока путь к самому себе заступала марионетка. Сломав марионетку, герой как бы освободился и от господствующей системы, по крайней мере, вышел из окружения ее кривых зеркал.
Герой освободился, однако дорогой ценой. "Я - не их Штиллер! - говорит он. - ...Я несчастный, пустой, ничтожный человек, у меня нет прошлой жизни, вообще нет никакой жизни".
Жизнь, по Фришу, - это идентичность самому себе. И о такой "жизни" дьявольски трудно рассказывать ("Я говорю очень неясно, - признается Штиллер, - если я не лгу - просто так, для отдохновения"), трудно, ведь она лишена материальной основы, осязаемых фактов. Пропавший без вести Штиллер стал в Новом Свете бродягой Уайтом, ни с кем не связанным, всем чужим, безразличным, живущим лишь своей внутренней жизнью. Уайт - только человек аморфен. Ему присущи порывы, настроения, ощущения, но у него нет настоящего социального бытия, даже нет биографии. Ее приходится выдумывать - это процесс, сходный с поисками оболочки, которыми занимается повествователь в "Гантенбайне". И сходство указывает на известную опасность "уайтовского" состояния Штиллера. Уайт как "отчужденный в своем обществе" - явление положительное. Однако он отрицателен в качестве принципиального аутсайдера, в роли чисто оппозиционного, антиобщественного сознания. И роль эта по-своему не менее ложна, чем конформистская маска Фабера. "Они, - говорит прокурор о людях типа Штиллера, - вышли из фальшивой роли, и это, разумеется уже кое-что, но это еще не ведет их назад в жизнь".
Поскольку Штиллер в конце концов признал себя пропавшим без вести скульптором, попытался начать все сначала и вновь потерпел поражение, можно было подумать, будто его заключительная трагедия - следствие капитуляции. Но в романе Фриша все, как и в жизни, много запутаннее: Штиллер не сдался, признав себя Штиллером; напротив, он попытался сделать следующий шаг на том же пути. Вернув себе конкретный образ, он получил возможность углубить свой бунт уже как единица социальная и потерпел поражение не потому, что сделал это, а потому, что не сумел сделать вполне: его погубило одиночество, посреди которого разрастались старые заблуждения, прогрессировала давешняя слепота.
Штиллер давно, чуть ли не с первых дней своего заключения, подумывал, не бросить ли игру в Уайта. Но тогда он еще колебался. Ему казалось, что взять на себя ответственность за прежнего Штиллера - тоже род бегства, бегства в роль. Перелом наступил, когда к нему в камеру пришел старый профессор Хефели с супругой - родители его покончившего самоубийством приятеля.
Фантомы прошлого окружают героя. И убитым горем старикам он уже не смеет бросить в лицо: "Я - не Штиллер", потому что (как записывает после их ухода) "сегодня мне опять стало ясно: с чем ты не справился в жизни, нельзя похоронить, и пока я пытаюсь это делать, мне не уйти от поражения".
Это касается не только истории с молодым Хефели, а и его собственного "испанского приключения": то, что у него когда-то не хватило сил стрелять по франкистам в упор, стало главным внутренним поражением его жизни, источником нравственных терзаний. Окружению Штиллера такое непонятно. "Почему ты сказал - поражение в Испании?" - спрашивает Юлика, когда он во время их последней встречи пытается объяснить этим все свои неудачи, даже семейные. И другим "испанское приключение" кажется эпизодом, по-своему любопытным, волнующим, но, главное, законченным, оставшимся в прошлом. И потом, с их точки зрения, эпизод этот свидетельствует скорее за Штиллера, чем против него: ведь, ненавидя абстрактных фашистов, он не сумел убить живого человека...
В те годы, "красные тридцатые", когда Штиллер попытался взять в руки винтовку, многие западные интеллигенты становились коммунистами. Или думали, что становятся. И немало было среди них таких, которые позднее относились к этому как к "заблуждениям молодости", порой фатальным, а порой и извинительным: нельзя же слишком строго судить человека за его "юношеский идеализм"! Таким видели Штиллера его близкие, да и все его конформистское, обывательское окружение. Однако не таким видел он себя сам: он считал себя предателем и все еще - через добрых пятнадцать лет - не простил себе этого предательства, не подвел черты под минувшим.
Разумеется, Штиллер никогда не был коммунистом, идейным бойцом - не был даже в глазах Фриша. Он был романтическим, анархиствующим мечтателем, был и остался индивидуалистом. Причем, может быть, даже более определившимся, чем представляется самому Фришу - в известной степени, тоже индивидуалисту.
Дело в том, что предательство Штиллера - с точки зрения как героя, так и автора романа - это предательство не столько по отношению к испанским и русским товарищам (многие из которых тогда погибли), сколько предательство по отношению к самому себе. По крайней мере, штиллеровская неспособность стрелять интересует Фриша прежде всего в этом аспекте.
Штиллер упустил некую возможность. Ведь в Испании он мог, оставаясь "отчужденным в своем обществе", обрести (благодаря участию в коллективной борьбе против этого общества) некую почву под ногами. Иными словами, ему было дано преодолеть отчуждение, преступить границы буржуазного бытия. Он не сумел сделать это тогда, не сумел и теперь. "Штиллер остался в Глионе и жил один", - так заканчивается роман. Герой еще жив, а автор уже расстается с ним. Но почему сейчас - не позже, не раньше? Да потому, что со смертью Юлики завершилась духовная одиссея Штиллера. Он не изменится более, и Фриш утрачивает к нему интерес: быт героя писателю безразличен, его привлекает только движение личности.
* * *
Роман "Штиллер" написан в нетрадиционной манере (как, впрочем, и романы "Homo Faber" и "Пусть мое имя будет Гантенбайн"). Нет здесь последовательно развертывающегося действия, логически и психологически обусловленного сюжета, где отдельные эпизоды поддерживают, дополняют, развивают друг друга. Напротив, тут как бы отсутствует минимальный порядок: разношерстные куски перемежаются без какой бы то ни было видимой необходимости. Неискушенного читателя это может отпугнуть, а более искушенному показаться формалистическими упражнениями. Однако сам Фриш выводит форму своих романов непосредственно из социальной действительности, его окружающей.
"По меньшей мере спорно, - читаем мы в его дневниках, - объяснима ли существующая тяга к эскизности личными недостатками. Вопрос об умении, профессионализме рано или поздно превращается для всякого, кто жертвует ему свою жизнь, в вопрос о праве; это значит: профессиональная забота исчезает за нравственной... Позиция большинства современников, мне кажется, выражается вопросом, и форма вопроса, пока нет полного ответа, может быть только временной; и пожалуй, единственный облик, который он с достоинством может носить, - это действительно фрагмент".
Фриш не абсолютизирует такую условную, незавершенную романную форму, он сам видит ее слабости. Но для него эта форма неразрывно связана с характером, с самой сутью эпохи - с ее переходностью. Таков наш мир, утверждает Фриш своими романами, таков живущий там герой. А если еще поставить перед собой те задачи, какие намерен решать Фриш, ни к миру, ни к герою не подберешься иначе как изнутри, в ходе напряженнейшей дискуссии с ними - дискуссии, разламывающей монолитность сущего.
Роман "Штиллер" - это тоже записки (как и "Homo Faber", как и "Гантенбайн"). Но почему именно такая манера рассказывания полюбилась Фришу? Нет, не только из-за "тяги к фрагментарности", которая так легко сочетается с формой записок, - писателю еще требуется занять свою собственную позицию между личностью персонажа и его ролью.