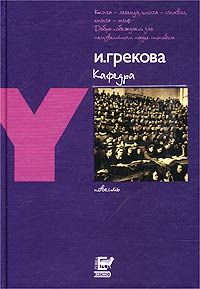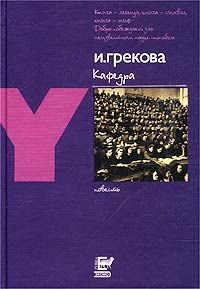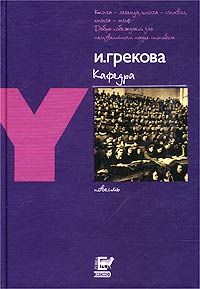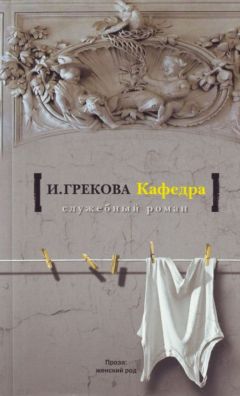Почему-то эти страхи не противоречили общему чувству упоения жизнью, а как-то парадоксально его поддерживали. Мертвецы, встающие из могил в конце гоголевской «Страшной мести», эти костистые руки, которые «поднялись из-за леса, затряслись и пропали», до сих пор вызывают у меня блаженные мурашки по коже. Конечно, далеко не в такой степени, как в детстве. Тогда это было чувство высокого ужаса, как у Пушкина:
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы...
...Эти волшебные вечера, когда Пулин читал нам вслух! Электрического освещения тогда еще не было (по крайней мере, у нас). Пулин читал при керосиновой лампе, бросавшей на его лицо и красивую лысину яркие блики. Тень от его головы на стене была бархатно-черной. Я до сих пор люблю керосиновое освещение, недолюбливаю белый казенный электрический свет и уж совсем не выношу так называемых ламп дневного света (ими недавно оборудовали наш институт). Свет у них не дневной, а мертвый, покойницкий. Синие цвета в нем свирепеют, красные гибнут.
Итак, о вечерних чтениях. Они кончались всегда в строго определенное время (в девять часов), после чего Пулин прощался с нами, подходя по очереди к каждой кровати и целуя каждого в щеку. У моей кровати он как будто задерживался дольше других (вероятно потому, что я был самый младший, но мне хотелось думать: самый любимый). «Пулин», — говорил я ему, и он отвечал: «Тс-с...» Это был как будто наш сговор об особенной взаимной любви. После Пулина подходила прощаться Мамочка — мягкая, душистая, очень своя. Я всегда норовил коснуться ресницами оправы ее очков. Как бы мы ни нагрешили за день, вечер был наш, и эта прощальная ласка — наша... Потом в детской гасили лампу, прикрутив фитиль и подув на него, и губы дующего на мгновение высвечивались особенно ярко. Волшебный запах погасшего фитиля долго еще плавал в воздухе, и как будто из этого запаха возникало ночное мерцанье лампадки...
Было у меня с Пулином и особое, только наше с ним общение. Когда я немного подрос, он начал со мной заниматься математикой privatissime, как он говорил по-латыни. Эти «приватнейшие» уроки, с глазу на глаз, сделали меня тем, кем я впоследствии стал и кем, к сожалению, перестал быть (но это вопрос особый).
Как он гордился моими успехами, как радовался, когда я, окончив университет, был оставлен при кафедре (ему самому научной карьеры сделать не удалось — помешала ранняя женитьба, семья). И как жаль, что до моего профессорства он не дожил... Умер он в двадцать пятом году, еще молодым по теперешним моим понятиям, от разрыва сердца (теперь сказали бы — от инфаркта). Мамочка ненадолго его пережила, тенью ушла за ним в могилу. В день, когда мне было присуждено звание профессора, я пришел на кладбище и постоял у их общей могилы со шляпой в руках.
Никого и никогда в жизни (даже Нину!) я не любил так исступленно, как любил отца. Он был моим божеством. Его голос, блеск глаз, головы, весь его чистый и крепкий облик представлялись мне совершенством. А больше всего покоряло в нем непостижимое слияние серьезности, глубины и постоянной готовности к смеху.
В сущности, он был строгим отцом. Одной поднятой брови Пулина мы боялись больше, чем любых Мамочкиных красноречивых упреков. Она нас иной раз шлепала — он никогда пальцем не трогал. Наказывал нас иначе: пассивностью, неподвижностью, вынужденным бездельем. Вел провинившегося к себе в кабинет, сажал на диван, запретив двигаться и разговаривать, сам же садился за стол заниматься. Для меня это было ужасно, я сидел, уже через минуту весь истомившийся, задыхаясь, полный ропщущих мыслей, но сознавая свою вину. Иногда, не выдержав каторжного безделья, я начинал под шумок таскать конский волос из тела дивана. Пулин поднимал голову — и я замирал. Обои в кабинете были узорчатые, темно-вишневые; до сих пор для меня этот цвет как угрызение совести.
И наряду с этим в веселые минуты он был проказлив, как мальчик. Он общался с нами, детьми, на равных, всегда был зачинщиком наших потех. Теперь должность зачинщика потех штатная, его называют затейником — о, Пулин не был затейником, в его озорной, разудалой веселости было что-то сродни философским выходкам средневековых шутов.
Излюбленным материалом, с которым он работал, были слова. Играя ими, как жонглер, он сочинял шарады, пословицы, каламбуры, пародии. «Все люди делятся на два разряда, — говорил Пулин, — одни живут как молятся, другие — как беса тешат». Надо ли говорить, что мы (семья) относились ко второму разряду? «Тешенье беса» шло у нас перманентно и разнообразно. Разговаривали мы на каком-то сумасшедшем жаргоне («гажечка», «вонтик», «борзятина»). В ходу были «убольшительные» слова: вместо «чашка» говорили «чаха», вместо «ложка» — «лога». Пели песни, пародируя народные; у одной, например, были такие слова: «Ты прости, прощай, сор дремучий тир...» Нет, этого не расскажешь — получается глупо, глупо и глупо. А в этих глупостях был какой-то нам ясный сверхсмысл...
А как мы ходили! Нам было мало просто переставлять ноги — у нас было множество разных походок, у каждой свое название, своя выразительная функция. Например, ходить «лапчатым шагом» значило мелко катиться на ступнях, как на колесах; выражалось этим подобострастие. Ходить «наступальником» — агрессивно притопывать правой ногой, подтаскивая к ней левую («Сам черт мне не брат»). Была еще походка «круто по лестнице» — лестницы никакой не было, мы ее изображали осанкой, пыхтением...
Как я теперь понимаю, Пулин в своих «постановках» пользовался приемами, в чем-то похожими на приемы китайского классического театра, о котором тогда и не слыхивали (по крайней мере, в нашем кругу). Много лет спустя, увидев в китайском спектакле нашу домашнюю походку «наступальником», я был потрясен...
Вне сомнения, он был остроумен, но очень по-своему. Я не помню, например, чтобы он рассказывал анекдоты, смешные истории. Смешное делалось из подручного материала: слов, жестов, выражений лица. Чуть-чуть смещенное слово, сдвинутый акцент, пауза — и готово: смейся до упаду, до счастливых слез!
Помню, однажды я подошел к нему и, ласкаясь, прижался щекой к его лысине. Она была горяча, а щека прохладна. Пулин поднял на меня глаза и произнес торжественным ямбом: «Глава огнем пылает. Щека хладит главу». Казалось бы, что тут особенного? А я чуть не умер со смеху. До сих пор, вспоминая, смеюсь.
И зачем я все это здесь записываю? Все равно передать словами его интонацию невозможно. Она живет только в моем сознании и, когда я умру, исчезнет. Пишу затем, чтобы сейчас для себя одного что-то воскресить, закрепить, зафиксировать. Но, ударившись о бессилие слов, отступаю.
Пулин был из тех редких людей, которые в любых условиях, в любых обстоятельствах остаются самими собой. Пользуясь математическим термином, он был инвариантен по отношению к внешней среде.
После революции гимназию расформировали, здание заняли под какое-то учреждение с многоэтажным названием. Из квартиры нас выселили в другую, тесную и холодную. Пулин на все эти перемены смотрел хладнокровно, даже с веселым любопытством, в отличие от большинства своих коллег, впавших в панику.
Лишившись своего положения и привилегий, он сразу же пошел рядовым учителем математики в Единую трудовую школу (ЕТШ). Состав учащихся был самый пестрый — от институток до беспризорников. Пулин и к этим детям находил дорогу, сочетая строгость со смехом...
В трудное время Гражданской войны и разрухи жизнь была полна лишений — не хватало еды, одежды, дров... Каждое из них он умел обыграть, сделать предметом новых и новых шуток. Дома у нас было ужасно холодно, мы топили стульями, распилили на части буфет. У Пулина зябла голова, и он надевал на нее колпак от чайника — пышное сооружение с гребешком и лентами. Этот колпак он называл тиарой. Пулин в тиаре — до чего же он был хорош, как полон достоинства! Когда я уезжал на фронт, он кивнул мне головой в тиаре...
Он до сих пор для меня жив. Иногда я, старый человек, наедине с собой говорю вслух: «Пулин!» — и слышу в ответ: «Тс-с...»
Людиного сына назвали Матвеем. Это имя выбрала для него Ася Уманская (так звали ее покойного любимого деда).
Весна в этом году выпала ранняя, яркая (пробившийся сквозь черный снег левитановский «Март»). На улице, ослепленной солнцем, бесчинствовали воробьи, а небо было такое голубое — не небо, а небеса! Когда Ася с Людой вышли из родильного дома, такая кристальная радость сыпалась с этих небес, дрожала в лужах, капала с сосулек, что обе невольно зажмурились. Все ликовало. И Матвей на руках у Аси, ликуя, спал в голубом одеяле, осененный кружевным треугольником нарядной пеленки, разложив длинные ресницы по нежным щекам. Весь он был такой новенький, розовый, чистый — само совершенство!
— Ну признайся теперь, что дура была, — сказала Ася.
— Факт, — согласилась Люда.