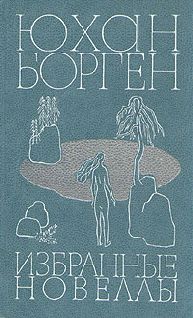В конце среднего прохода пол поднимался вверх, точно сходни, прогуливаясь однажды мимо такого склада, Вилфред видел похожее устройство: сыры втаскивали на эти сходни и по ним катили вверх на улицу.
Но дверь на улицу была заложена и заперта. Руки Вилфреда нащупали тяжелые железные засовы. Он приложил ухо к двери и прислушался. Все было тихо - ни криков, ни шагов сторожа. Где-то вдали послышалась сирена отъезжающего автомобиля.
И снова к нему начал подкрадываться прежний страх. Он уже не так отчетливо представлял себе дом, со всеми его ходами и выходами. Может, он опять оказался рядом со своей мастерской? Впрочем, размышлять бесполезно. Они уже в пути, эти люди, они идут, пригнув головы, с карманными фонариками и ломиками в руках, они ищут свою добычу в сотнях тайников огромного притона разврата, который они обнаружили и раскрыли, наивно полагая, что уж теперь-то нанесли уголовному миру большого города решительный удар.
Вилфред спустился по сходням вниз и нашел окно, выходящее па улицу. Оно было достаточно велико, чтобы он, при его худобе, мог в него пролезть. Может, это и выход. Другого у него, во всяком случае, не было.
Бережно положив ребенка на пол, Вилфред из небольшой груды выбрал голову сыра. Он подкатил ее к окну, за ней другую, потом третью. Потом взобрался на них, приставил локти к стеклу и надавил.
Струя освежающего ночного воздуха ворвалась в окно. Он на мгновение прислушался, потом стал извлекать из рамы осколки стекла так, чтобы образовалось отверстие пошире. Потом принес ребенка и, снова взгромоздившись на сыры, осторожно просунул малыша в окно. Ребенок слабо пискнул, продолжая крепко спать. И тут Вилфред вспомнил, что мать давала мальчику на ночь успокоительное. Если бы он хоть раз заплакал, ей не позволили бы держать его при себе. Только почувствовав, что тельце ребенка коснулось тротуара, Вилфред выпустил его из рук.
Он уже собрался последовать за ним, когда вспомнил вдруг о деньгах и карточках. Если его схватят с такими крупными купюрами - ему конец. И карточки! Он горько сожалел, что прихватил их с собой. И для чего? Но каяться поздно. Ребенок, лежавший на тротуаре, в любую минуту может заплакать. И чего ради он подобрал мальчишку? Просто мания у него какая-то спасать людей! Он скривил гримасу в темноте - ладно, ребенок послужит ему алиби. Мужчина с ребенком на руках ночью - трогательное зрелище. Но надо отделаться от крупных купюр и карточек. Соскочив с сыров, он зажег спичку. Может, спрятать их за штабелями сыров в глубине? А вдруг сыры увезут? Все равно, выхода нет. Спичка в его ладони догорела. Он, согнувшись, пробрался между штабелями сыра и сунул карточки и деньги в пространство между стеной и сырными головами. Потом, как кошка, прокрался назад к окну. Оттолкнулся ногами и стал протискиваться наружу. Он спиной чувствовал, как по коридорам подвала теперь уже целеустремленно, в погоне за ним, несутся, чуть пригнув голову, полицейские - держи его, держи! Но когда он очутился на тротуаре с ребенком на руках, вокруг не оказалось ни души, не слышно было ни звука только его собственная кровь ритмично пульсировала в висках и на шее. Осторожно приблизив ребенка к своему лицу, он почувствовал его спокойное дыхание. Тогда он стремительно бросился через улицу. Теперь он опять сообразил, где находится. Чтобы попасть на улицу Нансена, надо было дважды пересечь широкие проспекты. Это ему удалось. Летняя ночь была темной, небо заволокли тяжелые тучи. Он перебегал от угла к углу, где мог, прячась в подъездах, при этом его не покидало ощущение, что он забавляется веселой игрой.
Но когда он добрался до дома тетки Адели, веселое настроение вдруг испарилось. Охоту играть как рукой сняло. Он еще раньше рассчитал, что в дом на Гаммель-Странд соваться нечего - полиция наверняка уже там побывала. Но он не подумал, что Адель носила адреса своих "тетушек" в вышитой сумочке. Так что, может быть, полицейские пронюхали уже и про улицу Нансена, и про Гаммель-Мёнт - наверняка они уже до всего докопались или вот-вот докопаются. Стражи закона знают, как вести охоту на людей.
Он остановился на ближайшем углу, мысли вихрем вертелись в его голове. Глупо все-таки считать, что полиция действует столь молниеносно. Прежде всего им надо, конечно, выяснить все, что касается самого заведения, чтобы пополнить досье материалами, которые оправдали бы полицейскую акцию. Газеты в здешней стране беспощадны, когда нарушается неприкосновенность жилища.
Но едва Вилфред очутился в подъезде под той комнатой, где он провел свою первую копенгагенскую ночь, он ощутил, как опасность сгущается вокруг него, словно сама августовская ночь была врагом, сплошь состоящим из недремлющих глаз и цепких рук.
Он тихонько прокрался в подъезд с ребенком на руках. Малыш опять затих, но глаза его были открыты. И вдруг Вилфред остановился как вкопанный, услышав голоса. Они доносились с лестничной клетки этажом выше - очевидно, оттуда, где когда-то от стены, освещенной "венецианской" лампой, отделилась женщина с зеленоватым лицом. И вдруг перед ним, будто в озарении, предстало все: лестничная площадка наверху, и скудно обставленная комната, и залы "Северного полюса", откуда вымело все следы радости, и рыщущие по ним полицейские, и город вокруг, и спящие за занавешенными окнами люди, и он сам, точно крадущийся зверь, в темном парадном, с ребенком на руках - два человека в ночной тьме...
Это продолжалось минуту, потом он скользнул к подножию лестницы, чтобы подслушать, что говорят. Один голос принадлежал хозяйке, она явно против чего-то возражала.
- Говорю тебе, я останусь здесь, по вкусу тебе это или нет, - оборвал ее мужской голос.
Мужской голос. Он был Вилфреду незнаком, но звучал враждебно. И тут раздался другой голос, низкий и грубый.
- Ты что, не понимаешь, старая! Он, сука, охмурил ее, а наших парней обчистил. Он всех нас выдаст...
Это был голос Эгона.
Осеннее утро прорезал вой фабричного гудка.
13
Гудок вывел Вилфреда из оцепенения: его могли обнаружить в любую минуту.
Он бесшумно выбрался из парадного и, прижимая к себе ребенка, побежал по улице в обратном направлении. Холодная усмешка застыла на его губах.
Теперь за ним гнались с двух сторон: он стал дичью, которую обложили охотники, ему не поздоровится, в чьи бы руки он ни попал.
На первом же перекрестке он свернул, ища улицы поуже, где легче укрыться за домами. Потом, снова сменив направление, двинулся на северо-восток. Светлая августовская ночь была на исходе. Небо над Зундом стало золотисто-серым. Теперь гудки пробуждающихся фабрик перекликались друг с другом.
За ним гнались с двух сторон. Он рысцой трусил по улицам, осознав вдруг, что значит быть гонимым. Усталость давала знать о себе жаркими приливами крови, ребенок стал оттягивать руки.
В глаза ему бросился маленький трактир, он был открыт. Усталость и голод властно заявили о себе - они пересилили страх. В кафе сидели двое молодых рабочих и шофер. За стойкой стояла добродушная женщина, которая тотчас принесла чашку горячего молока для ребенка. Она была из породы славных людей - из тех, что не задают вопросов. Женщина захлопотала над ребенком, помогла Вилфреду его накормить. Сам он жадно поглотил несколько толстых ломтей хлеба, мясную запеканку с луком и несколько чашек горячего кофе. Потом на мгновение вздремнул с ребенком на коленях, и снова ему казалось, что он погружается в бушующие волны, но на этот раз волны кишели цепкими руками - они вот-вот схватят его. Он проснулся, вздрогнув, когда шофер вышел из трактира: Вилфред боялся шоферов. Сунув руку в карман, чтобы расплатиться, он вдруг наткнулся на большие ассигнации и жесткие карточки. Он похолодел - стало быть, в подвале второпях он отделался не от всех карточек и не от всех крупных купюр.
Когда он оказался на улице, уже совсем рассвело. Он зашел в лавочку, купил еды и молока в пакете. В каком-то невзрачном магазинчике приобрел пеленки и одеяло для ребенка, и погремушку, которую до поры до времени сунул в карман. Каждый раз, когда приходилось расплачиваться, он осторожно рылся в карманах - только бы не вытащить крупные купюры и злосчастные карточки. На беду, некуда их выкинуть...
Потом он направился через парк к пристани для прогулочных пароходов. По дороге он вздремнул на скамье, на которую присел, чтобы завязать шнурок ботинка. Он сам не знал, куда идет, только знал, что к пристани; в этом движении наудачу перед ним мерцала смутная цель - подальше от людей, от искушения зайти в какой-нибудь дом. Было еще слишком рано, слишком рано для чего бы то ни было. И однако - как бы не оказалось слишком поздно.
Едва он дошел до конца парка, как тотчас увидел ту самую яхту: голая, лишенная снастей, она стояла посреди бухты и без парусов и прочего убранства казалась одинокой и заброшенной - не лебедь средь лебедей, а скорее, маленький гадкий утенок среди роскошных кораблей, еще стоявших здесь, несмотря на конец сезона. Море было свинцово-серым. Собирался дождь.