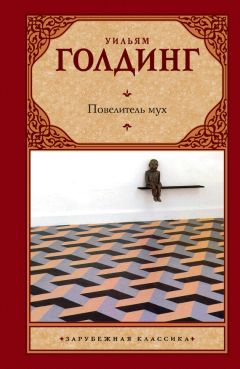Джослин знал, что это пустые слова, даже не упрек, а скорее всего – просто так, чтобы отвести беду, и что через пять минут они снова будут вращаться один вокруг другого, хохотать, или прогуливаться рука об руку у всех на глазах, или шептаться о чем-то своем. Но в общем-то она праведница: из всех слухов и любовных историй на Новой улице, где поселились строители, ни одна сплетня не коснулась Рэчел или мастера. Джослин оглядел неф, залитый солнечным светом, и снова почувствовал досаду. «День начался радостью и великими событиями, – подумал он. – Было начало, и был мой ангел. Но радость понемногу угасла, словно ангел был послан не только укрепить и утешить меня, но и предупредить». Он увидел вдали отца Ансельма, который величественно восседал у западной двери, высоко и неподвижно держа голову в ореоле седых волос, и к его досаде примешалась скорбь. Он вздернул подбородок и, обращаясь к патриархам, вещавшим с цветных оконных стекол, сказал:
– Пускай сердится, если ему угодно.
У него за спиной, в трансепте, раздался смех и замер в проломе. Значит, Рэчел ушла; он обернулся и увидел, что мастер разговаривает с землекопами. Он хотел было вернуться и еще настаивать, убеждать, но раздумал. «Напрасно я сам пошел к нему, – подумал он. – Надо было призвать его к себе и выговорить ему за драку у ворот. А что, если мэр потребует суда? И я не сказал даже половины того, что хотел. А все эта женщина, с ее наглым подергивающимся лицом и бесконечной болтовней. Есть женщины, чье невежество крепче ворот и засовов. Надо было и ей выговорить за нескромность, пусть знает свое место. В другой раз, когда встречу ее одну, поговорю с нею терпеливо, объясню, как она должна себя вести.
Господи, какими орудиями приходится пользоваться!»
Он услышал в нефе стук подкованных сандалий и подумал, что этот человек похож на деревянную куклу. Он обернулся. Отец Адам шел обычным своим шагом, не спеша, но и не медля, как будто никогда ничего другого не делал, только ходил вот так изо дня в день, приносил, уносил, ожидал распоряжений – безжизненный, равнодушный и покорный. Он стоял перед настоятелем, сложив руки на груди, как игрушка, сделанная ребенком, который даже не пытался вырезать лицо, а руки и волосы нарисовал чернилами. Он снова явился с каким-то делом и теперь задерживал Джослина, который с самого утра ничего не ел.
– Неужели вы не можете подождать, отец Адам?
Отец Безликий…
Отец Безликий проскрипел своим ничтожным голосом:
– Я думал, вы пожелаете прочесть письмо немедля, милорд.
Джослин вздохнул и сказал устало, досадливо, с таким ощущением, будто из него выжали всю радость:
– Ну что ж, давайте сюда.
Джослин повернулся и подставил письмо лучам заходящего солнца. Он читал, и лицо его прояснялось, досаду сменило удовлетворение, потом восторг.
– Вы хорошо сделали, что сразу принесли его мне!
Он преклонил колени, перекрестился и возблагодарил Бога. Но волна радости уже нахлынула снова, подняла его с колен, понесла к мастеру, который разговаривал у ямы со своим подручным Джеаном. Когда Джослин подошел, мастер прервал разговор с Джеаном и сказал:
– Твердого грунта все нет. Если вода в реке будет так прибывать, копать глубже нельзя, придется ждать не одну неделю. А может, и не один месяц.
Джослин постучал пальцем по письму:
– Вот тебе ответ, сын мой.
– Что это?
– Милорд епископ не забыл нас. Даже сейчас, пребывая в Риме у Святого Престола, он помнит о своей далекой пастве.
Мастер сказал нетерпеливо:
– Вы что, не хотите понять меня? Говорю вам, из денег шпиль не построишь. Сделайте его из золота, и он только глубже уйдет в землю.
Джослин со смехом покачал головой.
– А теперь послушай меня, и ты увидишь, что тебе не о чем беспокоиться. Не деньги посылает епископ. В конце концов, что такое деньги? Он посылает нечто гораздо более, бесконечно более ценное… – Волна чувств захлестнула Джослина, взметнула его голос высоко. Он положил руку на плечи мастера, и это было почти объятием. – Мы замуруем его в самый верхний камень шпиля, и он пробудет там до конца дней. Милорд епископ посылает нам святыню. Гвоздь с креста Господня.
Он убрал руку с плеч мастера, который стоял с непроницаемым лицом, и взглянул вдоль залитого солнцем нефа. Увидев седую голову отца Ансельма, он вдруг подумал, что без исцеляющего бальзама жизнь была бы непереносима. И он быстро пошел, почти побежал, к старику через весь неф, размахивая письмом.
– Отец Ансельм!
На этот раз Ансельм встал перед ним. Он встал медленно, безропотно снося свое мученичество, и не закашлялся, дабы соблюсти достоинство, а лишь глухо, едва слышно кашлянул три раза. Лицо у него было холодное и непроницаемое.
– Отец Ансельм. Дружба – бесценное сокровище.
Все то же непроницаемое лицо.
Джослин, окрыляемый радостью, не отступал:
– А мы что с ней сделали?
– Вы ждете от меня ответа, милорд, или же это вопрос риторический?
Джослин со всех сторон обволакивал его любовью.
– Хотите прочесть это письмо?
– Вы приказываете мне, милорд?
Джослин громко рассмеялся:
– Ансельм! Ансельм!
Старик упрямо отвергал его любовь, отворачивался, глядя на дощатую стенку, и покашливал негромко, но явственно, сухо: кха, кха, кха.
– Если письмо касается капитула, милорд, мы, без сомнения, узнаем его содержание в должное время.
– Ансельм, я хочу сделать вам подарок. Я освобождаю вас от этой обязанности. Мне следовало знать, что с вашим слабым здоровьем и при таком упорном нежелании… В конце концов, я больше всех занимаюсь этим делом. Я беру все на себя. Вы один можете меня понять, вы, мой духовник, пастырь моей души.
– Позвольте мне спросить, милорд. Значит, я не должен буду ни сторожить в соборе, ни надзирать за сторожами?
– Вот именно.
Выражение лица Ансельма не изменилось, его благородный профиль в ореоле седых волос был обращен к востоку. Он стоял, величественный, царственный, спокойный. И тяжело обронил:
– А грамота?
Тяжелые слова. То не были жемчуга или самоцветы, которые подобает рассыпать святому. То были булыжники. И Джослин не мог даже обидеться, не находил, за что ухватиться, потому что, хотя слова и были дерзкими, они были верны и отвечали уставу: «Коль скоро один из четырех высших священнослужителей о чем-либо договаривается с другим, да будет оный договор писан в грамоте». Устав был словно начертан перед ними в воздухе, и Ансельм покончил дело, приведя оттуда слова:
– «Во изменение же писаного да будет тоже дана грамота с приложением малой костяной печати в присутствии обоих священнослужителей».
– Да, я знаю.
Ансельм снова заговорил холодно и спокойно. Он уже не кашлял.
– Это все, милорд?
– Да, все.
Он стоял, глядя назад через левое плечо, и слышал, как удаляются шаги ризничего. «Надо забыть о нем, – подумал он. – Я обманулся. У него благородный вид, но из уст его падают только камни».
Он посмотрел на письмо епископа. «Мы словно на весах, – подумал он. – Чем выше поднимает меня радость, тем ниже падает Ансельм. Гвоздь и мой ангел. Канцеллярий, мастер и его жена…»
Вдруг он почувствовал, как немилосердно подрезаны крылья его радости, и злоба снова вспыхнула в нем. Пропади они все пропадом, но работа должна продолжаться! Он прошел под западным окном, прижимая письмо к груди, вздернув подбородок, и пробормотал в ярости:
– Теперь уж я сменю духовника!
Вечером, когда он преклонил колени, чтобы помолиться на сон грядущий, ангел снова явился и стоял у него за спиной, утешая его и овевая теплом.
На другое утро, проснувшись чуть свет, он услышал шум дождя, сразу вспомнил слова мастера и, среди прочего, помолился о хорошей погоде. Однако дождь лил три дня, а потом дал лишь полдня передышки, но облака висели низко, и воздух был сырой – хозяйки сушили белье у очагов, где оно не столько сохло, сколько чернело от сажи; потом ветер снова принес дождь, который не унимался целую неделю. Когда настоятель выходил из своего дома и, закутавшись в плащ, торопился к собору, облака висели над самой крышей, так что даже зубцов не было видно. А сам собор, этот священный фолиант, высеченный из камня, уже не возглашал славу, а лишь бормотал скучную проповедь. Он весь был скользкий, вода струилась по мху, лишайнику и растресканным камням. Когда дождь уныло моросил, время тянулось так же уныло, медленно, тоскливо. А когда начинался ливень, тысяча каменных голов словно оживала, и тогда вспоминалось, что те, с кого они изваяны, давно гниют на погостах подле собора или у приходских церквей. Из разинутых ртов извергалась вода, словно то была новая, неслыханная еще адская мука, и эта вода вливалась в потоки, которые струились по стеклам, свинцу, каменному кружеву, по контрфорсам, башенкам, зубцам и подзорам, а потом с журчанием и бульканьем стекали в канаву у подножия стены. Когда налетал ветер, он не разгонял туч, а только вслепую бил по воздуху, с каждым ударом словно опрокидывая на землю ушат воды, и, когда он хлестал сзади, даже сам настоятель пошатывался, а при встречном порыве втягивал голову в плечи, будто над ним занесли кулак, и плащ трепыхался у него за спиной, как крылья. Когда ветер стихал, облака опускались ниже, и Джослину не видны были даже верхние окна; из-за сплошной завесы дождя он уже не чувствовал величия храма. Теперь ему приходилось довольствоваться тем, что было доступно взору, – углом какого-нибудь мокрого камня, где каждая мелочь казалась огромной и было множество изъянов, словно на коже, когда рассматриваешь ее слишком близко. В углах на северной стороне собора – но теперь не стало солнца, по которому можно было определить, где север, а где юг, – гнездился застарелый запах мочи. Река, выйдя из берегов, затопила дорогу и, не побоявшись стражи у городских ворот, ворвалась на грязные улицы. Мужчины, женщины и дети сидели, съежившись, у очагов, и под каждой крышей витал дым от сырых поленьев или торфа. Только в трактирах было людно.