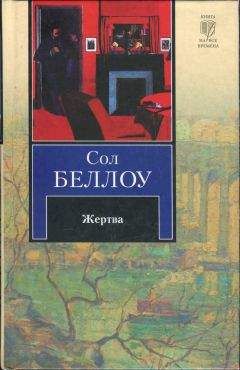Иногда он вспоминал Олби, гадал, может, Уиллистон что-то знает. Но он уже написал Уиллистону, возвращая те десять долларов, которые по таким-то и таким-то причинам не смог передать Олби. В письме он особенно старался разъяснить свою точку зрения и, зная, что, по мнению Уиллистона, он склонен преувеличивать, давал тщательный, сдержанный отчет о том, что произошло. Олби, он написал, «пытался совершить совместное самоубийство, не получив предварительно моего согласия». Можно было, честно говоря, прибавить «и не собираясь сам умирать». Были солидные основания для такого предположения, были. Но Уиллистон не ответил, а Левенталю гордость не позволяла писать второе письмо; зачем унижаться. Или Уиллистон счел, что он не передал Олби деньги со зла? Но Левенталь же яснее ясного объяснил, разжевал — у него буквально не было возможности. «За кого он меня принимает?» И было обидно. Он снова и снова перебирал в уме те сумасшедшие дни. Ведь старался же поступить по справедливости, да? И разве не хотелось ему помочь? Нет, они с Олби квиты, с какой меркой ни подойди. Ах, скажите, много бы изменила эта несчастная десятка! Сначала он страшно расстраивался; потом придумывал, чтобы сказать Уиллистону, если вдруг они встретятся. Ему так и не представилась такая возможность.
Время от времени до него доходили слухи про Олби. Правда, всегда из десятых рук, от людей, которые его в глаза не видели, и было всегда не совсем ясно, о нем ли собственно речь. «Один журналист, родом из Новой Англии, закладывает за галстук» и прочее. За три года он слышал с десяток таких историй, и хоть бы две сходились. Он и не пробовал удостовериться. Конечно, слушать всегда было интересно, но, сказать по правде, он не хотел докапываться, где этот тип да что он там делает. Наверно, продолжает опускаться. Может, в каком-нибудь заведении, в больнице какой-то, если не лежит уже в общей могиле. Не хотелось особенно в это вдаваться.
Но в один прекрасный вечер он таки снова увидел Олби. Один деятель, который поставлял разную старину для спектакля на Бродвее, дал Левенталю две контрамарки. Идти ему не хотелось; настояла Мэри. Мэри, беременная, на сносях, говорила, что через месяц будет связана по рукам и ногам, сто лет никуда не сможет выбраться. Левенталь говорил, что в театре будет душно — в начале июня не ко времени шпарила жара, — но в общем он довольно вяло сопротивлялся. В тот день пришел с работы пораньше. (Они переехали на западную сторону Централ-парка, ближе скорей к пуэрто-риканским трущобам, чем к роскошным хоромам Шестидесятых и Семидесятых улиц.) Осоловело просидел за ужином. Еще не успел покончить со сладким, Мэри стала убирать со стола. Он помылся, побрился второй раз на дню и надел свой костюм с Палм-Бич, выпростав из пакета, в котором его восемь месяцев тому назад прислали из чистки. Брюки были коротковаты, жали, за зиму он потолстел.
В подземке было довольно жарко; в театре не продохнуть. Левенталь сидел, покорно смотрел. Он вообще не терпел пьес, а эта была вдобавок слезливая и натужная — какие-то путаные любовные перипетии в барочном дворце. Он держал Мэри за руку. В отсветах сцены видел пот у нее на лбу, под толстой петлей косы, на носу. Кожа у нее была чистая-чистая, и сердце у него поднималось к горлу, когда он смотрел, как она не отрываясь следит за действием. Иногда он тоже посматривал на сцену. По темному лицу у него тек пот, тесный костюм измялся; воротничок — хоть выжми.
Как только упал занавес после первого акта, он вскочил и сквозь толпу потащил Мэри и фойе. Билетер распахнул дверь на тротуар, они вышли. Народ валом валил в буфет. Закурили сигаретки, смотрели на улицу и дальше, в золотое свеченье стекла, растворяющееся в дымке. Вечер был прямо тропический. Упало несколько веских капель дождя; воздух, влажный, пахучий, черный, будто мягкими лапками надавил на плечи. И без конца — рестораны, клубы, тьма машин. Вдруг, на крутом вираже, с дальнего конца улицы, с разлета, перед самым театром замерло такси. Сзади надрывались гудки. Дверца такси распахнулась, и вышла женщина. Странность бытия, вечно преследовавшая по пятам Левенталя, вдруг придвинулась, навалилась, когда через плечо этой женщины в тусклом свете машины он увидел лицо ее спутника. Стеклянный верх полез на сторону, выказывая вращение и сверканье соломенной тульи. Женщина ловко оттолкнулась от подножки, одной рукой сжимая на горле шелковый шарф, другой подбирая юбку. Стройная, длинноногая, двинулась вольным каким-то шагом, элегантно, чуть-чуть неловко. Драгоценности сияли под шарфом, на пальцах. Маникюр блеснул фиолетово под матовым светом маркизы. Она стала спиной к улице и раздраженно трясла мерцающей маленькой тяжелой сумочкой. Мужчина почему-то никак не желал вылезать.
Мэри тронула Левенталя за локоть, шепнула:
— Узнал ее?
Но Левенталь вглядывался в кавалера.
— Это же Ивонн Крэйн, да?
— Кто?
— Ну актриса.
— Не знаю. — Он глянул слепым взглядом. — Да?
— До сих пор красивая — изумительно, — говорила с восторгом Мэри. — И как они ухитряются так молодо выглядеть?
Женщина немного подождала, обернулась, сказала тихо, грубо:
— Ну. Ты когда-нибудь вылезешь?
Тип в машине бранчливо вскинулся:
— Он такого крюку дал. Думает, я города не знаю? Я сюда не вчера приехал.
Слов женщины они не разобрали, но услышали, как шофер что-то коротко нагло бросил в ответ, после чего спутник, давясь хохотом, заорал:
— Ну-ну, не надо… Это вы толстосумам заезжим впаривайте.
Женщина открыла сумочку и бросила деньги шоферу.
По этому хохоту Левенталь убедился, что в машине сидит Олби, и с окаменелым лицом, почти с ужасом во взгляде ждал его появления.
Олби ступил на тротуар, проворчал:
— Нечего было его баловать.
Такси рвануло, мотая открытой дверцей; шофер, не тормозя, потянулся рукой, захлопнул.
Левенталь детально разглядел Олби, когда парочка проходила мимо. Вечерний смокинг. Цветок, лихо пристегнутый, свисает на лацкан; шляпа под локтем, широкие плечи задраны, пружинистый, светский шаг. И лоснятся румяные щеки. Он хохотал в хорошенькое, но нервно-суровое лицо спутницы. Кажется, он задорно ее пихал, и очевидно было по положению ее плеч, что она не хочет, чтобы ее пихали.
— Его я не узнала, — сказала Мэри. — Но это Ивонн Крэйн, я совершенно уверена. Сто раз видела фотографии. Неужели не помнишь?
Во втором акте Левенталь весь извертелся, смотрел на ложи. А там — то чей-то румянец мелькнет в отсвете сцены, то голова черным силуэтом означится на фоне красного шара со словом «выход», а то тенью пройдется по сдержанному блеску перил. Конечно, они сидят в ложе. Ивонн Крэйн или нет — хоть Мэри права, наверно, — но женщина эта явно богата; и у Олби не просто благополучный вид в этом вечернем смокинге, чеканных брюках, прошитых шелком. А цветок! Цветок этот особенно потряс Левенталя — черт-те что, дикость, роскошь, декадентство какое-то. Да, неплохо пристроился, думал Левенталь. И эту женщину, звезда она, не звезда, эту женщину он хорошенько прижал к ногтю. Ни из какого слуха не проистекало такое благополучие. Ничего себе — умер, похоронен в общей могиле! Ну то есть! Он вытащил из кармана платок, вытер подбородок и шею. Оживали огни под аркадами, он щурился, морщился. Занавес. Аплодисменты. А он и не заметил, как действие подползало к концу. Оркестр грянул туш, и, поспешней, чем после первого акта, он помог Мэри подняться.
Он закуривал сигарету, шаря взглядом в поисках Олби, и тут увидел его на ступенях. Он был один и, тараща глаза, улыбаясь, делал растопыренной пятерней какой-то знак Левенталю — он не понял. Мэри что-то ему говорила. Он, совершенно отупевший, не отвечал. Она повторила. Ей нужна пудреница, у него в кармане лежит. Ей надо в дамскую комнату. Он поскорей вытащил, отдал ей эту пудреницу. Кажется, ее озадачило его лицо, она глянула остро, прежде чем отвернуться.
Когда Мэри поднималась по лестнице, Олби проводил ее округлившиеся формы одобрительным взглядом. Левенталь вышел из фойе. Он чувствовал, что Олби идет к нему, но глаз не поднял, пока не услышал голос:
— Привет, Левенталь.
Этот хрипловатый, сдобный голос с прежней вкрадчивой ноткой, эта броско крупная фигура, белый смокинг — всё действовало Левенталю на нервы.
— Привет, — он ответил, дергаясь.
— А я вас видел, когда мы входили.
— Я думал, не видели.
— Я понял, вам лучше, чтоб я притворился, будто вас в упор не вижу, но я бы себя чувствовал последним идиотом, если б с вами не заговорил… Так вы меня видели, да?
— Да.
— И с кем я был?
— С актрисой? Жена ее узнала.
— А, жена, — сказал он вежливо. — Красивая. Весьма и весьма, даже в таком положении. — Он начал улыбаться, широко, демонстрируя зубы. Подбочась, поклонился слегка. — Мои поздравления. Вы, я вижу, следуете завету: «Плодитесь и размножайтесь».