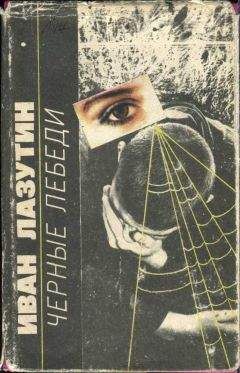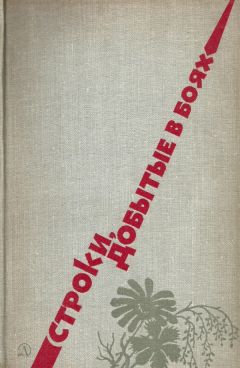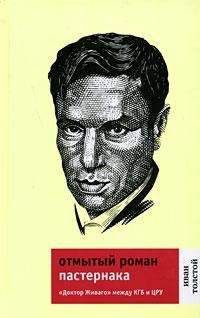— Да, у меня сейчас неожиданные осложнения. Но они сугубо личные. Гарри, налейте мне, пожалуйста.
— О! — воскликнул Гарри, услужливо наливая в рюмку коньяк. — Теперь я верю, что вы настоящий русский. Выпьем за то, чтоб в жизни нашей было меньше драм.
Чокнулись, выпили.
«Вот теперь, кажется, хорошо. Теперь я в спортивной форме», — Дмитрий затянулся сигаретой и задумался.
— Скажите, Гарри, что это вы меня второй вечер угощаете?
— Почему вы об этом спросили?
Шадрин задумался:
— После войны я прочитал немало книг американских писателей. Они меня познакомили с нравами американцев. И, признаюсь, мне особенно нравится одна их черта.
— Какая? — спросил Гарри.
— Деловитость.
— Вы правы. У нас в штатах все подчинено одному богу — бизнесу. — Гарри наполнил рюмки: — Выпьем!.. Бизнес — это наша романтика, наша религия.
— Вот поэтому-то я и спросил вас: за что это вы угощаете меня? Зачем дали мне деньги? Ведь вы же без пользы для дела никогда не пожертвуете даже цента. Это у вас, американцев, в крови. Давайте говорить начистоту. Зачем я вам нужен?
Теперь Гарри уже не улыбался. В уголках его рта залегли складки сосредоточенного раздумья.
— Вы правы. Мы, американцы, слишком расчетливые и слишком занятые люди, чтобы бросать деньги на ветер или тратить их на благотворительные цели. Мы очень уважаем древний принцип римлян: «Do, ut des»[6]. И если мы вкладываем в какую-нибудь акцию цент, то получить пытаемся доллар.
— Какое отношение имеет этот латинский принцип к тем деньгам, которые… — Шадрин умолк.
— Я понимаю вас. Вы правы. Вы нам нужны.
— Кому это — нам?
— Мне лично. Я — журналист. Пишу книгу о Советском Союзе. А еще точнее — о советских людях в послевоенные годы. В этой книге я буду восторгаться духовной мощью вашего народа, который не разучился улыбаться, выйдя из кровавой мясорубки четырехлетней войны. В этой же книге я буду печалиться, глядя на скудость технического потенциала вашей страны. В целом советский человек в моей книге предстанет богатырем в лохмотьях.
Шадрин смотрел на Гарри и поражался таким смелым и искренним напором человека, которого он видит второй раз.
— Что же вам нужно от меня: водопад восторга или фонтан печали? — Дмитрий пытался улыбаться, хотя чувствовал, что Гарри не принимает всерьез его горькую улыбку.
— От вас мне нужен фонтан печали, — твердо ответил Гарри, словно давно ждал этого вопроса. — О вас я знаю больше, чем вы думаете.
— Что вы обо мне знаете? — спросил Шадрин, наблюдая за невозмутимым лицом американца.
— Вы с честью прошли войну. Вашу грудь украшают боевые ордена. Вы дважды тяжело ранены. В партию вы вступили не в студенческой аудитории, а между боями… Вы с отличием закончили университет, и вот… — Гарри сделал паузу, наблюдая за лицом Шадрина.
— Что вот? — через силу улыбаясь, спросил Дмитрий.
— Я собственными глазами видел лачугу, в которой живете вы, герой войны. О вашей работе мне говорила Надя. Только прошу вас — не думайте о ней плохо. Она хоть и легкомысленна, но вас высоко ценит. За свою работу вы получаете нищенские гроши. Любой человек на вашем месте может не только возмутиться, но взбунтоваться и потребовать условий, которых он заслужил. — Гарри смолк, щелкнул зажигалкой, закурил.
— Взбунтоваться?.. Каким образом?
— Самым демократическим и самым миролюбивым, — спокойно, словно продолжая безобидный застольный разговор, проговорил Гарри. — Вы пишете подробное письмо в одну из высоких государственных или партийных инстанций. В этом исповедальном письме вы обрисовываете свое безысходное жалкое положение, не скупитесь на слова возмущения. Требуете, чтобы в вашу судьбу вмешались руководители этих инстанций и облегчили вашу участь. Вы требуете предоставления вам приличного жилья и работы по специальности. Вы на это имеете право как гражданин, как юрист высшего класса и как ветеран войны.
— А дальше? — с трудом сдерживая поднимающийся в нем гнев и злость, спросил Шадрин.
— Дальше все очень просто: это письмо вы печатаете у машинистки, направляете его в избранную вами высокую инстанцию и в день отправки письма случайно, по рассеянности, забываете в кафе или столовой папку, в которой среди других несущественных бумаг находится оригинал этого письма с вашей подписью.
— А потом? — Дмитрий чувствовал, как к вискам его приливает кровь и в левой стороне груди начало щемить, отдаваясь тупой болью в плече.
— Это письмо попадает в мои руки. А уж как оно попадает — для вас это не имеет ровно никакого значения. Главное, что по рассеянности вы забыли в кафе папку, которая к вам уже больше никогда не вернется.
— И вы это письмо напечатаете в своей книге о России? — сдержанно спросил Шадрин.
— Да, я опубликую его вместе с другими подобными письмами в своей книге, которая выйдет миллионным тиражом и будет переведена на европейские языки.
Перед Шадриным всплыл образ чекиста, с которым он утром встречался на Кузнецком мосту. «Интересно, как бы он повел себя на моем месте? — подумал Дмитрий, мучаясь в сомнениях, как вести себя дальше, чтобы не быть разоблаченным сидящим против него человеком, мастером стремительного и рискованного диалога, в котором вопросы и предложения ставились резко и до цинизма обнаженно. И тут же решил: — Не торопись говорить «да!» и не спеши отпугнуть этого ловкого и опытного врага решительным «нет!». Дай ему выговориться до конца. Поторгуйся, Шадрин, посей в нем надежду, что за красную цену тебя можно и купить. Пока у тебя все идет гладко».
И Шадрин продолжал игру:
— А вы не задумывались над тем, что после выхода вашей книги, которую переведут на европейские языки, у нас в стране моя песня будет спета? Ведь мы живем по другим законам. Моральные кодексы моей страны и вашей расходятся.
— Я учел и это, — быстро нашелся Гарри, и Дмитрию показалось, что он ему пока верит. — В день потери вашей папки вы сообщаете о ней в бюро забытых вещей, наклеиваете объявление о своей пропаже в кафе на щиток, где обычно висит меню; вернувшему папку вы обещаете в этом объявлении вознаграждение. Одним словом, вы должны застраховаться на триста шестьдесят градусов. Как это сделать — не мне вас учить, вы юрист высшего класса и прошли такую тяжелую войну.
Молчание, повисшее над столом, было тяжелым, враждебным.
— Ваша нерешительность мне понятна, — мягко сказал Гарри и улыбнулся так душевно и светло, словно он разговаривал с любимым братом или со старым другом.
— Да… — Дмитрий тяжело вздохнул, разминая сигарету. — Вы предложили такое, от чего можно потерять сон и покой. Смелый вы человек, Гарри.
Гарри оживился:
— Запомните, Дмитрий: вы говорите с журналистом, который хочет, чтобы его знала Америка. А Америку нужно не только удивлять, но и поражать.
— Но ваши аппетиты простираются и на тиражи в Европе, — заметил Шадрин, прижигая сигарету. И снова перед его мысленным взором предстало строгое лицо чекиста с Кузнецкого моста. Оно как бы говорило: «Все нормально, не сбивайся с курса. Только сделай шаг назад. И внимательно проследи, как будет вести себя дальше этот ловец человеческих душ…»
Гарри уже наступал:
— Я хочу услышать о вашем принципиальном согласии помочь мне сделать эту книгу-бестселлер. Я делаю доллары и умею быть благодарным. Вы должны мне верить. Вашу биографию эта книга не испортит, а деньги… деньги, которыми я поделюсь с вами, сделают вас человеком свободным и независимым. — Гарри откинулся на спинку кресла, улыбнулся своей просветленной улыбкой: — Более того, как мне кажется, ваши высокие инстанции, к которым вы обратитесь с письмом, постараются мгновенно решить ваш квартирный вопрос, предоставить вам блестящую работу и через прессу обвинить меня во всех грехах тяжких.
Дмитрий мрачно молчал.
— Что же вы молчите? Решайте! Я сказал все. Осталось условиться о вашей доле гонорара.
И снова вздох… тяжелый вздох Шадрина прошелестел над столом:
— Вы безрассудно рискуете, Гарри. Как можно давать столь опасное задание человеку, которого вы видите второй раз?
Гарри желчно усмехнулся:
— Прежде чем стать журналистом, я познакомился с римским правом, с Конституцией Америки и с вашим Уголовным кодексом.
— И что же вынесли из всего этого? — Шадрин любовался изумительным хладнокровием и выдержкой Гарри.
— Вам как юристу этот закон известен. Testis unus — testis nullus[7]. И если вы завтра утром пойдете в органы государственной безопасности и заявите, что я уговаривал вас совершить преступление, — вам могут не поверить. Вы этого просто не докажете. Нас было двое: вы и я. В ответ на это я могу втянуть вас в такую историю, что вы из нее подобру-поздорову не выберетесь.