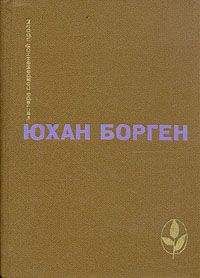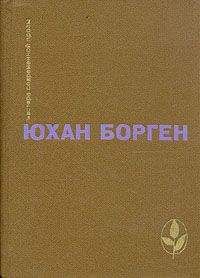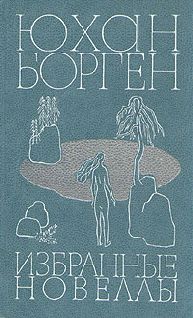- Мы с ума сошли, - сказала она тоном ребенка, который знает, что провинился.
- Ты думаешь?
Уверенно, как взрослый, он повел ее к своей комнате. На ней была та же соломенная шляпка с голубыми цветами, на плечах - светлая накидка. Он не предложил ей раздеться; мягко, многоопытно, он вел ее по лестнице. Но когда они поднялись к нему, он сдернул с нее шляпку, сбросил накидку на стул.
- Не так рьяно! - прикрикнула она на него, стараясь стать хозяйкой положения.
- Отчего же? - возразил он иронически. Он ощущал в себе какую-то чуждую силу. Кто был этот иной, дававший ему власть наблюдать себя со стороны?
Они безудержно целовались. Разница в возрасте вдруг исчезла. Все было совсем не так, как тогда, в ольшанике, теперь Вилфреду не приходилось стыдиться своей неопытности.
- Что с тобой, мальчик? - вдруг жалобно и неуверенно произнесла она. Ему вдруг подумалось, что она, может быть, и сейчас еще сама не знает, чего хочет. Даже сейчас ей хочется только поиграть.
- Что со мной? - жестко сказал он. Он был полон решимости, знания. - Ты прекрасно понимаешь, Кристина, что со мной! - шепнул он в самый шелк ее платья.
И она перестала притворяться. Перестала разыгрывать беспомощную, удивленную. Почти материнская нежность была в ее руках, успокаивавших его торопливые руки. Косые лучи солнца проникали сквозь гардины, осеняя белое тело, в которое он погружался. Вот она шепнула: - А вдруг кто-нибудь войдет!
Он холодно отметил про себя, что теперь сопротивление сломлено. Да и было ли сопротивление? - Никто не войдет! - выдохнул он в ответ. Слова без смысла. Ритуал. Он мог бы сказать и другое, что угодно, слова были чьи-то, не его, да и действовал не он, а кто-то другой. Действовал медленно, постепенно, обдуманно, и сам Вилфред поражался этому. Словно опыт поколений открывал ему путь к решающей минуте, совсем не так, как виделось в лихорадочных, сбивчивых, смятенных мечтах. Чужая воля управляла им, освобождая от торопливости и губительной робости новичка. Он был уже не подросток, растерявшийся перед лицом пугающей женской прелести. Кто-то чужой вселился в него и нашептывал мудрые советы о том, что спешить не надо, что надо давать, не только брать. Он наслаждался ее телом и своим и, покоясь на синих волнах блаженства, не терял сладостного контроля над их телами, слившимися в одно.
Медленно, медленно расслабились их объятия. Они вместе возвращались с небес на землю, совершая парящий полет сквозь сферы и избежав грубого перехода от блаженства к стыду. Переживание оказалось намного сильнее, чем Вилфред ожидал. Его охватило чувство непомерного счастья. Она лежала и, не стыдясь, открывала ему все тайны своего тела. Переход к нежной близости без лихорадки сделал их равными. Он это понял. Все время он знал, что ей с ним хорошо, не стыдно. Тот, чужой, все еще был в нем, нашептывал многовековой опыт страсти. И восторг победителя, властелина охватил его...
Победителя - но над кем? Мысли вернулись к тому, что только что свершилось. Ни тени разочарования. Было лишь слабое удивление, что то огромное и вправду было так огромно, но вовсе не трудно, не унизительно. Он не пережил ожидаемой катастрофы, низвержения с недоступных высот.
Но когда он вновь ощутил прилив страсти, она мягко высвободилась и села рядом на постели, пристально глядя ему в лицо.
- Вилфред, - сказала она. - Я поступила очень дурно. Но благодаря тебе у меня нет такого чувства!
Он встал перед ней на колени, утопил ее в нежных ласках, не жадных, настойчивых, как прежде, но робко восхищенных, благодарных. Ему это было необходимо - высказать ей свою благодарность, но и тут была тень расчета: так надо, так правильно. Тот же чужой по-прежнему обучал его науке страсти. И он подчинялся мягким приказаниям этого чужого. Он не чувствовал ущемления своей воли - чужак знал, что нужно Вилфреду, и желал ему добра.
- Ты посвятила меня в таинство, - сказал он серьезно. Она улыбнулась было, слишком уж торжественно это прозвучало, и он поспешно добавил: - Нет, правда, это не ребячий порыв, ты сама знаешь. Ты посвятила меня в таинство.
Она взяла его голову в свои ладони и посмотрела на него долгим взглядом.
- Может быть, ты и прав, - тихо сказала она. - Я даже думаю, что мне не в чем раскаиваться. Ты освобождаешь меня от угрызений совести.
- Конечно, тебе не в чем раскаиваться! - воскликнул он с неожиданным пылом. - То, что почти всегда страшно и стыдно для молодого мужчины, ты сделала для меня чудесным и прекрасным. Думаешь, я не знаю?
- Вилфред, - сказала она, - ты прелесть, только не уверяй, будто любишь меня, раз ты меня не любишь. Но ты самый взрослый ребенок и самый ребячливый взрослый из всех, кого я знаю.
Она говорила таким тоном, что его не мог задеть намек на возраст.
- Ты похож на него, - прибавила она и, улыбаясь, отстранила его лицо.
- На кого?
И снова она улыбнулась, на этот раз над его смешной ревностью, уж совсем детской.
- Да нет же, ты не то подумал, - торопливо объяснила она. - Тот человек... Ах, зачем я это говорю...
В глазах ее всколыхнулся испуг. Она смотрела перед собой - куда-то в глубину комнаты, пронизанной последними отблесками осеннего солнца. Он невольно проследил за ее взглядом; казалось, она видит кого-то, неизвестного и незаметного ему.
Косые лучи падали на портрет отца, стоявший на стуле у самой стены. Красные отсветы играли на бородке и придавали мазкам особую, красками недостижимую жизненность. Казалось, будто это лицо - слабое и вместе властное - выступило из рамы и, храня пойманное художником выражение, готово заговорить с ними и даже что-то уже говорит им обоим своим живым и горестным взглядом.
И тут Вилфред вдруг понял его. Впервые понял своего отца. Впервые в жизни ощутил темные узы родства между собой и этим запечатленным образом, некогда его пугавшим, будто исчез возраст, исчезли время и расстояние. И понял, кто был тот мудрый советчик, одаривший его опытом в новом, неиспытанном; гениальный любовник, наполнявший близких стыдом и счастьем и оставшийся для них вечной загадкой.
Вилфред медленно встал. Кристина последовала его примеру, торопливо собирая разбросанную одежду. Она проворно управилась со своим сложным туалетом, он же, совершенно голый, каким вышел из рук создателя, подошел к портрету отца, подставляя свою наготу его грешному, пронзающему взору. Но в этом взоре не было иронии, которая всегда наготове у взрослых. И уж во всяком случае, в нем не было осуждения и невысказанных попреков.
Радостно обернулся он к Кристине и ощутил нежность, впервые вытеснившую его горькую потребность самоутвердиться. Хлопнула входная дверь. Это вернулась Лилли. Вилфред тотчас узнал ее шаги и хотел было успокоить Кристину, но она подняла руку в знак того, что сама все поняла.
- Твоя мама может вернуться в любую минуту, - беззвучно произнесла она.
Он взглянул на часы. Прошел час. Впервые открылась ему головокружительная загадка времени - оно внутри человека, в крови, и только там.
- Да нет, вряд ли, - беспечно ответил он. - Мама просто упоена праздником, одно удовольствие было на нее смотреть.
Он без всякого стеснения одевался, продолжая разговаривать. Во всех его движениях было спокойствие многоопытности. Они поцеловались, стоя перед портретом отца, и оба одновременно оглянулись на него. Лучи солнца уже ушли с полотна. Теперь оно было погружено во тьму, еще более подчеркнутую соседством яркого блика на стене. Словно человек на портрете в нужную минуту сказал свое слово и удалился. Вилфред схватил холст и повесил его на стену, где он висел всегда.
- Я пойду, - шепнула она. - Одна.
- Я буду ждать тебя на углу, у кондитерской.
- Нет. Я хочу пройтись. Далеко-далеко. И одна.
- Далеко-далеко. И со мной.
- Одна - слышишь? До свиданья, Вилфред, милый.
Он стоял возле узкого окна прихожей и смотрел, как она идет по аллее. Теперь она уже не казалась обездоленной и одинокой; она шла легкой, быстрой походкой. Вот она свернула за угол. Вилфред ощущал сладость бытия. Долго еще стоял он и глядел на пустую аллею, удерживая в памяти образ Кристины, такой, какой он ее видел: в шляпке с незабудками, в накидке, ступающую легкими шагами, хранившими его тайну. Так он и стоял возле узкого окна, глядя, как спустились сумерки, как вспыхнули фонари. Так он и стоял, пока на аллее не показалась его мать.
- Ничего не случилось? - спросила она, когда он помогал ей раздеться.
- Почему ты спрашиваешь? Я все время был дома. Ну, как ты провела время с французами? Приятно было?
- Я так волновалась. Наверное, приятно, сама не знаю. Боюсь, что я уже стара для таких развлечений.
- Чепуха, мама! Ты говоришь это только для того, чтоб я сказал, что ты еще не старая.
- Ну так скажи это, скажи поскорее!
Они стояли друг против друга, мать и сын, как много раз, как всегда, и играли в старую игру: великосветская дама и ее эрзац-кавалер, как выражался дядя Мартин.