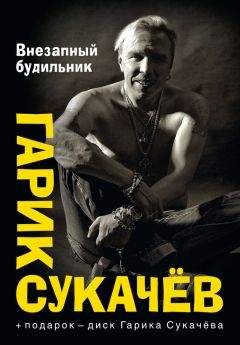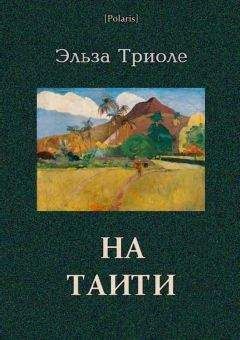Он врезался в Париж, как в масло. Ночной город был, на удивление, пуст и спокоен. Фредерик остановил машину перед домом… Садовая калитка не запиралась на ключ, надо только где следует ее толкнуть… Дорожка, ведущая к подъезду, заросла травой, будто здесь давным-давно не проходили люди. За окнами была темнота. Он стал шарить по карманам… черт, где же этот проклятый ключ? За дверью его встретил мрак передней, знакомый домашний запах… Выключатель. Нет света… Искать в потемках щиток, включать электричество и все время думать: «Значит, ее нет!» Вспыхнул свет, Фредерик пересек полуразрушенную залу, оставшуюся от старого особняка, вошел в спальню… Как все здесь невзрачно… Широченная постель. Ванная комната. Кухня. Огромность мастерской почему-то растрогали его. Он зажег только одну лампочку, отчего еще шире раздвинулись стены. Застекленная стена местами поблескивала. И здесь в этом обширном пространстве было все — его труд, вся его жизнь, его скульптуры, одни обнаженные, другие обернутые тряпками, одни прямо на полу, другие на подставках, на вращающихся столах… Фредерик направился к двери в сад, вышел в сумятицу деревьев и кустов, приминая ногами буйную, высокую, густую траву. Он был дома. Что бы то ни было, он у себя дома. Без позолоты, без подземных озер, ни тебе лебедей, ни парадных кроватей, ни павлинов, ни рейтеров… В беспорядке и пыли, просто живой человек, который работает, любит, ест, спит. Который может мечтать о церкви Виз, который намотал себе кое-что на ус. Которому достаточно только свистнуть, чтобы появились замки и гарем, если, конечно, ему нужен гарем. Пусть так. Но Мадлены здесь не было. Он бросился к телефону, вызвал департамент Сены-и-Уазы… Он долго ждал, а гудок твердил свои «SOS»… «Номер не отвечает…», — сказала телефонистка. Где же она? Возможно, просто еще не вернулась? Вдруг откуда-то навалилась усталость, руки и ноги ослабли, и он уснул в кресле.
Х. Свидание с временемМадлена приехала и крепко спала в каком-то отеле на Левом берегу. Ехала она целый день в еле тащившемся поезде. Машина ее стояла в гараже, и было слишком поздно, чтобы идти за ключом… Взять такси и поехать к себе за город? Не помню, говорила ли я вам, что Мадлена продала свою парижскую квартиру. Она уже давно ее возненавидела! Придется подыскать себе квартирку, комнату, где бы она могла останавливаться, приезжая в Париж. Впрочем, отчего бы ей не останавливаться в отеле, просто в отеле? Мадлена была спокойная и усталая. Спала она хорошо.
Париж, пустой, с закрытыми магазинами, нравился ей. Вот чего не мог позволить себе Людовик II — иметь Париж для себя одного. Двести восемьдесят представлений, данных для него одного в пустом театре, чтобы дыхание и взгляды толпы, нацеленные на короля бинокли, аплодисменты в его честь не мешали ему, не отвлекали, чтобы он мог спокойно насладиться музыкой… Мадлена рассмеялась про себя: это напомнило ей одного лионца, чревоугодника, который ел жареную куропатку, обмотав голову и тарелку салфеткой, чтобы не дать уйти запаху дичи, впитать его без остатка. Фредерику понравилось бы это непочтительное сопоставление гастрономических тонкостей с застенчивостью короля и его неумеренной любовью к театру. Но Людовик II был всего-навсего корольком и не имел возможности обезлюдить Париж. Для этого требовалось 15 августа или немецкая армия.
Утром, взяв ключ от гаража, Мадлена села в машину и медленно покатила по пустынным улицам и проспектам.
Так было в июне сорокового года. Я шла по авеню Габриель, деревья, безлюдье — все дышало бедой. Вдруг под деревьями возник Поль Шадурн в военной форме… Я не спросила себя, откуда он взялся, человеку все может присниться, в том числе и Поль Шадурн. Почему именно он? Он прошел, не заметив меня, и я продолжала кружить меж деревьев, словно заблудилась в дремучем лесу. Потом села на стул под деревьями вдоль Елисейских Полей, и никто не пришел взять с меня причитающуюся за стул плату. Елисейские Поля, обширные, как мир, опустошенный войной… В этой бескрайней пустыне только несколько военных машин — не больше, чем пальцев на обеих руках. И все они замедляли ход, проезжая мимо женщины, одиноко сидевшей на стуле, посреди пустыни, и заметной издалека. Я не могу забыть этого пустого Парижа, этих деревьев, идущего мимо Поля Шадурна, стула, машин, замедляющих ход, и в каждой сидел молодой военный…
Мадлена не могла помнить того, что было со мной, — пустота Елисейских Полей ее завораживала… Впрочем, со мной ничего не произошло. А как передать отсутствие событий, которые сказались на всей вашей жизни? Просто несколько мгновений, вставленных в раму. А как вставить в раму пустоту?
Пустынная дорога, пустой дом. Даже бродяга, очевидно, нашел себе пропитание в другом месте… Не открыв ставен, она бросилась в кресло и почувствовала удивительное физическое и моральное благополучие.
Почтальон, как и обычно, подсовывал в ее отсутствие корреспонденцию под кухонную дверь, и весь пол был усеян конвертами. Мадлена подобрала их, положила на большой стол в большой комнате.
Вырезки из газет… О Режисе по-прежнему говорили много, даже во время каникул… Кружок по изучению развил бурную деятельность. На аукционе в отеле «Друо» несколько листков рукописей Режиса Лаланда были проданы за двести пятьдесят тысяч франков. Какой-то сукин сын посмел продать адресованные ему письма. Три письма за сто пятьдесят тысяч франков. Брошюра. «Режис Лаланд на пороге вечности». Автор Бернар Плесе. Она перелистала брошюру…
«…Особенность логики Лаланда…»
Знаем, слыхали…
«…Мы уже говорили, что Режис Лаланд был верующим и прогрессивно мыслящим человеком. Он был верующим, как и Людовик II Баварский, но не принимал его положений о божественном начале королевской власти. В тронном зале замка Нейшванштейн предполагалось возвести трон неслыханной роскоши не для персоны самого короля, а как высший символ королевской власти. Этот сказочный трон так никогда и не был воздвигнут: король скончался слишком рано.
Режис Лаланд не мог разделять взгляды этого короля, отказавшегося управлять страной, выполнять свои обязанности монарха и тем не менее требовавшего от государства роскоши, тайной роскоши, укрытой на вершине горы среди лесов, — роскоши, даже не украшавшей Баварию ни в глазах его народа, ни в глазах чужестранцев. Демократ Режис Лаланд не мог принять такого порядка вещей, этого „двора“, состоящего из лакеев-разбойников, безропотно подчинявшихся сексуальным капризам извращенного короля, его маскарадам, его склонностям, описывать которые здесь было бы неприлично.
Режис Лаланд не мог сочувствовать королю, который ненавидел всех, кто выступал против королевской власти, боялся бомб, револьверов, революций, которого преследовала навязчивая мысль о покушении на его особу; король, ненавидевший пролетарский авангард — а вдруг он потребует от него отчета? Он ненавидел чиновников, буржуазию, крупную и мелкую — а вдруг они потребуют, чтобы он ими занимался, чтобы он делал политику? Он ненавидел своих министров, которые интриговали против него, отказывали ему в ассигнованиях на постройку замков… Людовик II любил только своих крестьян, фермеров, горных лесорубов, таких же реакционеров, как и он сам, требовавших от короля лишь одного: чтобы он носил корону и горностаевую мантию, походил на святых в их церквах, на сказочного принца. И тут Людовик II удовлетворял их.
Режис Лаланд мог лишь ненавидеть такого короля…»
Мадлена отшвырнула брошюру. Ох, все равно она бессильна против всех этих дураков, лжетолкователей, ненавистников, злых и глупых шутников… Никогда Режис не занимался тем Людовиком II, о котором писал Бернар. Он проник в тайное тайных этого бутафорского короля, этого жалкого притворщика, который ломался, прикидывался.
Она взялась за вырезки из газет… Казалось, «Аргус» с умыслом подбирал все направленные против нее гнусности… Она шагала босыми ногами по крапиве…
«Мадлена Лаланд, вдова Режиса Лаланда, по-прежнему отказывается допускать заинтересованных лиц к архивам, которые она бережет чересчур ревностно, и, пожалуй, злоупотребляет своими правами… Жалоба, поданная первой женой Режиса Лаланда…»
Что это еще за история? Какая жалоба? Мадлена даже подпрыгнула, словно ее обожгло… Потом прилегла, свернувшись калачиком, убитая горем. Вокруг нее стояла ничем не нарушаемая тишина. Возможно, весь свет, всё на свете погибло, пока она плачет из-за каких-то мелочей, из-за ничтожных мелочей. Щеки ее горели, ее хлестали крапивой, вечно хлестали крапивой… Она выбежала в сад, ей не хватало воздуха. Принялась прыгать с утеса на утес, подтягиваясь на ветках, как обезьяна, проделывала головокружительные упражнения, вконец измотав себя, угомонилась.
Хватит… Она поднялась в библиотеку. Рукописи Режиса пока еще принадлежат ей, их еще не продают с аукциона, «первая жена» Режиса еще не выиграла процесса, о котором Мадлена ничего не знала.