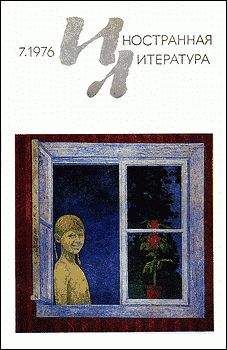Утром до начала работы Уолкот предупредил Каверли насчет Пенкраса. Тот был гомосексуалистом. Это сообщение удивило и опечалило Каверли, но пробудило в нем и некоторое упрямство. Он чувствовал то же, что тетя Гонора чувствовала в отношении ломовой лошади. Он не хотел быть ломовой лошадью, но и не хотел видеть, как с нею жестоко обращаются. Несколько дней он не встречал Пенкраса, а затем как-то вечером, когда он собирался съесть свой обед прямо из кастрюли, гоночная машина с ревом влетела на Кольцо К и Пенкрас позвонил у дверей. Он привез Каверли к себе поужинать, и они опять гуляли в лесу. Никогда Каверли не встречал человека, с таким интересом слушавшего его воспоминания о Сент-Ботолфсе, и был счастлив, что может говорить о прошлом.
После еще одного вечера, проведенного с Пенкрасом, Каверли стали ясны намерения приятеля, но он не знал, как себя вести, и не видел основания, почему бы ему не обедать с гомосексуалистом. Он прикидывался перед самим собой невинным или наивным, но эта отговорка была крайне неубедительна. Гомосексуалист, в сущности, никого из нас не удивляет. Мы выбираем галстуки, смачиваем и причесываем волосы, зашнуровываем ботинки, чтобы понравиться предмету своей страсти; так же поступают и они. Каверли был достаточно опытен в дружбе, чтобы понимать, что преувеличенное внимание, уделяемое ему Пенкрасом, объяснялось любовью. Тот хотел быть обольстительным, и, когда они после ужина пошли гулять, его окружала атмосфера эротического возбуждения или смятения. Они миновали последний дом и поравнялись с военными сооружениями - казармами, полковой церковью и плацем, который был огорожен побеленным известью каменным забором. На пороге одной из казарм сидел какой-то мужчина и выковывал браслет из осколка ракеты. Это была - как в большинстве армейских гарнизонов "ничейная земля", с которой в чрезвычайных условиях войны поневоле мирились, но которая теперь казалась более изолированной и пустынной, чем всегда. Они прошли мимо казарм в лес и уселись на камни.
- Через десять дней мы уезжаем в Англию, - сказал Пенкрас.
- Мне будет недоставать вас, - сказал Каверли.
- Вы тоже едете. Я все уладил.
Каверли обернулся к своему спутнику и уловил в его глазах такую печаль, что ему почудилось, будто он никогда не сможет прийти в себя. Это был взгляд, какой не раз вызывал в нем отвращение - доктора в Травертине, буфетчика в Вашингтоне, священника на ночном пароходе, приказчика в лавке, - тот обостренный взгляд мужчин, одолеваемых горестью однополого влечения, горестью и извращенным желанием бежать (помочиться в суповую миску лоустофтского фарфора, написать гадкое слово на задней стенке сарая и удрать в море с грязным-прегрязным матросом) - бежать не от законов и обычаев мира, а от его силы и энергии.
- Еще всего только десять дней, - вздохнул его спутник, и вдруг Каверли почувствовал, как в нем смутно шевельнулось противоестественное влечение. Это продолжалось какую-то долю секунды. И от этой мысли, что он присоединится к числу мужчин с тусклым взглядом, блуждающих в темноте, как Дядюшка Писпис ПасТилка, бич совести обрушился на него с такой силой, словно кто-то хлестнул его по самому чувствительному месту. Секунду спустя бич опустился на него снова - на этот раз за то, что он унизил человеческое достоинство. Дядюшке Писпису судьба назначила бродить по садам, а в представлении Каверли мир был местом, где допускается такое одиночество. Затем бич обрушился опять - и на этот раз он находился в руках привлекательной женщины, которая бесконечно презирала его за такого друга и глаза которой сказали ему, что отныне ему навсегда заказано наслаждение женщинами - этими утренними созданиями. Он с вожделением подумал о том, чтобы отправиться в море с педерастом, и Венера повернулась к нему своей голой спиной и навеки ушла из его жизни.
Это была убийственная потеря. Кокетство и признания женщин, их воспоминания и рассуждения об атомной бомбе, их тайные склады "клинекса" и лосьона для рук, тепло их грудей, их способность подчиняться и забывать, эта сладость любви, превосходившая его понимание, - все ушло, Венера стала его врагом. Над ее нежным ртом он нарисовал усы, и теперь она велит своим любимицам презирать его. Она могла разрешить ему время от времени разговаривать со старухой, но не больше.
Стояло лето, воздух был полон семян и цветочной пыльцы, и с той необыкновенно обостренной зоркостью, какая дается горем, Каверли, словно сквозь лупу, видел изобилие ягод и стручков с семенами на земле у своих ног и думал о том, с какой щедростью создает все природа, чтобы способствовать продолжению вида, и только для него, Каверли, она сделала исключение. Он думал о своих бедных добрых родителях на Западной ферме, счастье, благополучие и пропитание которых зависит от доблести, которой он не обладает. Потом он подумал о Мозесе, и его охватило страстное желание повидать брата.
- Я не могу поехать с вами в Англию, - сказал он Пенкрасу. - Я должен повидаться с братом.
Пенкрас стал упрашивать, потом откровенно рассердился, и они вышли из леса не вместе.
Наутро Каверли сказал Уолкоту, что он не хочет ехать в Англию с Пенкрасом, и Уолкот одобрил его решение и улыбнулся. В ответ Каверли бросил на него угрюмый взгляд. Это была улыбка хорошо осведомленного человека - он, конечно, все знал о Пенкрасе, - это была улыбка филистера, довольного том, что он спас свою шкуру; она была из числа тех наглых улыбок, которыми держится и питается весь нездоровый мир притворства, недоверия и жестокости... Но затем, приглядевшись внимательнее, он увидел, что то была самая дружелюбная и милая улыбка, во всяком случае улыбка человека, сознающего, что другой человек знал, что происходило в его голове. Каверли попросил два дня в счет годового отпуска, чтобы навестить Мозеса.
Он ушел из лаборатории в полдень, упаковал чемоданы и поехал автобусом на вокзал. Несколько женщин ждали на платформе поезда, но Каверли отвел от них взгляд. Он больше не имел права любоваться ими. Он был недостоин их прелести. Очутившись в поезде, он закрыл глаза, чтобы не видеть среди мелькавшего за окном ландшафта ничего, что могло бы доставить удовольствие, так как миловидная женщина заставила бы его болезненно переживать свою недостойность, а красивый мужчина напомнил бы ему о гнусности той жизни, которую он едва не начал. Спокойно ехать он мог бы лишь в обществе каких-нибудь чудовищ мужчин с бородавками и сварливых женщин, по какой-нибудь необыкновенной стране, где случайные проявления изящества и красоты объявлены вне закона.
В Брашуике рядом с Каверли сел седой мужчина, державший в руке один из тех зеленых саржевых мешков для книг, какие обычно носят в Кеймбридже. Потертая зеленая ткань напомнила Каверли о зиме в Новой Англия, о простом, патриархальном образе жизни, о возвращении на ферму перед рождеством, и о снежной мгле, сгущающейся над прудом, где катались на коньках, и о лае собак вдалеке. Незнакомец и Каверли - мешок с книгами лежал между ними разговорились. Спутник оказался ученым. Его специальностью была японская литература. Он интересовался самурайскими легендами и показал Каверли перевод одной из них. В ней рассказывалось о каком-то самурае-гомосексуалисте, и, когда Каверли уяснил себе смысл, его спутник достал несколько гравюр, изображавших "подвиги" самурая. Тут клапаны сердца у Каверли чуть не захлебнулись кровью, и он стал прислушиваться к тому, что творилось у него в груди, как мы прислушиваемся у дверей, чтобы узнать, не происходит ли за ними что-нибудь подозрительное. Затем, покраснев, как Гонора, зардевшись, как старая дева, обнаружившая, что все высочайшее скрипучее здание ее целомудрия зашаталось, Каверли схватил свой чемодан и помчался в другой вагон. Чувствуя тошноту, он пошел в уборную, где кто-то написал карандашом на стене гомосексуальное домогательство, обращенное ко всем, кто будет стоять у трубы водяного охлаждения и насвистывать "Янки-дудл". Как мог он укрепить в себе чувство нравственной полноценности, как мог он вложить в уста Пенкраса другие слова или делать вид, что на гравюрах, показанных ему, была изображена гейша, идущая по заснеженному мосту? Он смотрел в окно, от всего сердца стремясь отыскать в проносившемся мимо ландшафте какой-нибудь клочок пригодной к употреблению животворной истины, но то, во что он всматривался, были темные равнины американского сексуального опыта, по которым все еще бродили бизоны. Ему хотелось, чтобы вместо Макленнеевского института он в свое время посещал какую-нибудь школу любви.
Каверли прямо воочию видел подъезд и фронтон такой школы и стал придумывать программу обучения в ней. Там будут вестись занятия по теории распознавания зарождающейся любви, читаться лекции об ужаснейшем заблуждении, в которое впадают, смешивая поклонение и нежность; там будут проводиться симпозиумы, посвященные неразличимым эротическим импульсам, мужским комплексам и одержимости; там будут даваться описания той власти, какой обладает эмоциональное возбуждение, окрашивающее мир в мрачные или радостные тона. Ученикам будут демонстрировать изображение Венеры, отмечая при этом их реакции. Те жалкие мужчины, которые надеялись, что женщины дадут им возможность убедиться в своей сексуальной природе, будут каяться в своих грехах и признаваться в несчастьях, а распутники, надругавшиеся над женщинами, будут также призваны свидетелями. Те ночи, когда он лежал в постели, прислушиваясь к шуму поездов и дождя и ощущая под бедром хлебные крошки и холодные пятна любви, эти ночи, когда радость превосходила его понимание, будут подробно объяснены, и его научат давать точное и осмысленное толкование фигуры прелестной женщины, в сумерках вносящей в дом свои цветы, перед тем как ударит мороз. Он научится здраво оценивать все эти нежные и прелестные фигуры - женщин, которые что-то шьют из голубой ткани, волной ниспадающей на их колени, женщин, в наступающей темноте поющих своим детям баллады о злосчастной участи Карла Стюарта, женщин, выходящих из моря или сидящих на скалах. Для Каверли будет специальный курс о матриархате и его утонченном влиянии - ему придется изрядно потрудиться, чтобы усвоить его, - курс об опасностях слепого угождения женам, которое, надевая на себя личину любви, на самом деле служит выражением скептицизма и горечи. Там будут читаться строго научные лекции о гомосексуализме, и о его меняющейся роли в обществе, и о том, правильна или ложна теория о его связи с волей к смерти. О той неуловимой грани, перейдя которую влюбленные перестают обогащать и начинают пожирать друг друга; о той критической точке, на которой нежность разъедает самоуважение и дух как бы начинает распадаться на хлопья, похожие на частицы ржавчины, как если бы их поместили под микроскоп и увеличивали до тех пор, пока они не стали бы большими, точно стальные балки, и без труда распознаваемыми. Там будут диаграммы любви и диаграммы меланхолии, а хмурые взгляды, которым мы вправе придать безнадежное вожделение, будут измерены с точностью до миллиметра. Для Каверли это будет трудный курс, он знал это, и большую часть времени он будет находиться под угрозой исключения, но в конце концов он его закончит. На пианино сыграют туш, он пройдет по эстраде и получит диплом, а затем спустится по лестнице и пройдет под фронтоном, полностью обладая теперь способностью к любви, и с чистой совестью, с радостным предвкушением будет взирать на землю, на беспредельный мир.