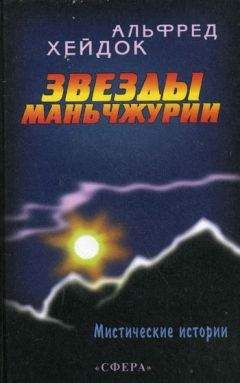Кончился короткий отдых. Опять два человека, не замечая боли в пояснице, не чувствуя холодной воды, лихорадочно работают; один выбрасывает песок из ямы, другой - промывает. У обоих одна мысль, как бы кто не помешал! Еще бы недельку, месяц поработать бы!
Катится с горы мал камешек. Столкнула его чья-то нога на вершине, а катится сюда, к работающим! Эх! Упадет - чьи-то мечты разобьет.
Вадим увидел камешек и крикнул Бельскому. Оба прянули в кусты и уставились на вершину сопки. Вот мелькнула в кустарнике синяя курма - китаец проходит. А, может быть, поселянин? Тогда еще не так страшно... Нет! Повернул рябое лицо к ним - хунхуз! Тот же самый, который зимою приходил, когда оба товарища работали на концессии! Вот быстро удаляется: высмотрел чего ему больше! Теперь скоро вся банда сюда нагрянет.
Приятели вылезли из кустов и направились к балагану. Каждый по-своему реагировал на события. Вадим угрюмо молчал, а Вольский с самым равнодушным видом насвистывал песенку. Терять ему было в привычку. Разве он не потерял всего раньше, там, в России? А сколько раз он терял и на чужбине.
Сборы были чрезвычайно короткие. Все было упаковано в рогули. Русские охотники и приискатели переняли их употребление от ороченов и китайцев. Рогули водрузились за плечами, и два человека решительно зашагали, чтобы в двое суток достичь железной дороги.
Под самый вечер ливень пронесся над тайгой; он налетел бурею и в мгновение ока накрыл сопки мутною сеткою косо падающей воды. Пока бушевал ливень, день погас, и клокочущий раскатами грома мрак черною шапкою покрыл все. Вспышки молний выхватывали из темени стволы деревьев с черными сучьями, подобными костлявым, пощады просящим рукам. Потом ветер присмирел, и дождь стих, и ночная тайга заговорила разными голосами: бурлили невидимые глазу ручьи, пищали какие-то зверьки, и трещали ветви под крадущимися в стороне шагами.
Сыро, неприветливо и страшно в такую ночь в тайге; черными платками проносятся над головою бесшумные совы, а кусты, кажется, шепчут: не ходи... не ходи...
Ноги путников хлюпали в грязи, и они вымокли до последней нитки. Вадим почувствовал озноб; после беспощадного дождя его начало лихорадить.
- Леша, я больше не могу; давай устраиваться на ночлег!
- Потерпи, брат! Дотянем до перевала; там, в стороне от дороги, старая кумирня есть.
Еще грязь, кочки, крутой подъем, каскады воды с кустов и - перед ними зачернела похожая на громадный гриб кумирня. Она дохнула в лицо запахом тайги и намокшей земли. Когда Вольский натаскал хвороста и развел огонь на полу, то бурундук с писком шмыгнул с древнего изображения Будды, а под крышей зашуршало по всем направлениям.
Едкий дым потянулся от костра к трещинам в крыше. Вадим в изнеможении растянулся на полу. Лежал с полчаса и чувствовал лихорадочный жар внутри, а вместе с жаром стал ощущать тревожную напряженность и необъяснимое обострение чувств.
- Все ли спокойно в тайге? - глухо заговорил молчавший до тех пор Вольский, - не идут ли за нами? Схожу, посмотрю.
Посмотрел Вадим на друга и испугался того, что увидел. Печать смерти лежала на лице друга...
Есть страшный дар у некоторых людей: они могут заранее узнать обреченных. Еще на германском фронте Вадим знал пьяницу-прапорщика, который накануне сражения долго всматривался в чьенибудь лицо и крутил головою. Это был признак, что завтра того человека убьют. Ни разу не ошибся. Этот дар обнаружил у себя и Вадим.
Вадим вскочил, раскрыл рот, хотел крикнуть: не ходи! - но Бельский уже выскользнул в дверь.
Вадим бессильно опустился на пол. Эх! Разве можно остановить судьбу? Все равно, нельзя! А, может быть, он ошибся? Дай, Бог!..
Тихо. Костер перестал потрескивать. Догорая, уголья тлеют синими огоньками, и не может слабый свет одолеть мрака. Тишина такая, что звенит в ушах. Что-то долго нет товарища! Однако надо идти за ним! Чего это он сразу не догадался, надо бы вместе!.. Встал, повернулся Вадим, а перед ним уже Вольский стоит - вернулся! Только напряженный он такой до чрезвычайности, и тихо-тихо говорит, так тихо, что, кажется, будто и звука нет, но ясна для Вадима его речь:
- Сейчас беги отсюда! Хунхузы уже здесь! Они уже убили меня!
Сказал это старый товарищ и будто туманом подернулся, смутен стал, расплылся и растаял в воздухе.
Сперва страх ощутил Вадим, потом дрожь прошла по телу, и он почувствовал, как вместе с лихорадочным жаром красное безумие поднимается и пронизывает мозг. Страх моментально исчез, и дикая отвага заменила его. Мигом он укрепил рогули за плечами, схватил в руки топор и зычно крикнул в темноту:
- Спасибо тебе, Леша! Не забыл меня и после смерти! И я тебя не забуду, слышишь!
В два прыжка он выскочил на двор и прямо грудью столкнулся с рослым детиною. Отскочил, взмахнул топором, - что-то хрустнуло. Над самым ухом хлопнул выстрел и обжег щеку. Чьи-то цепкие руки обхватили его ноги из темноты. Вадим еще раз взмахнул топором, и руки разжались. Потом прыгнул во тьму и покатился с крутого откоса, цепляясь за кустарники и задерживаясь на неровностях...
x x x
Два дня спустя на вокзале одной из станций К. В. железной дороги появился невероятно оборванный человек с бледным, усталым лицом. Он купил билет до Харбина, а потом прямо прошел в буфет первого класса. Служитель хотел выпроводить бродягу, считая его недостойным "чистой половины", но вовремя остановился, услышав, что пришедший требует шампанского.
- Самого лучшего, - прибавил он. Шампанского не оказалось. Тогда незнакомец потребовал две сигареты и бутылку коньяка, причем опять прибавил: "Самого лучшего".
За все он сейчас же расплатился щедро и велел подать на столик две рюмки.
Он налил обе рюмки, но пил только из одной и непременно чокался с нетронутой.
Все время он смотрел в окно на видневшиеся вдали сопки, а когда пришел поезд, уехал.
МИАМИ
- Кто бы мог уверить меня, что история, которую я записываю, не есть мой бредовый сон, родившийся в воспаленном мозгу во время жесточайшего припадка тропической болезни? Кто бы мог, еще раз спрашиваю я, доказать мне, что эта история действительно была рассказана мне реально существующим человеком, к тому же русским, по фамилии Кузьмин?
Мне это очень нужно, ибо если в самом деле он существовал и в течение трех удивительнейших часов моей жизни находился тут, рядом со мной, на соседней кровати в больничной палате No II, то я снова влюбленными глазами посмотрю на мир и скажу:
- Он вовсе не так плох: в нем, кроме духа коммерции, есть еще кое-что! Теперь кровать рядом со мною пуста. Вчера я спрашиваю о Кузьмине сестру милосердия (если можно так назвать надменный автомат, исполняющий в нашей палате эту должность), но она ответила, что такой странной фамилии не помнит, и посоветовала воздержаться от разговоров, так как я слаб...
Впрочем, это ничего: когда выпишусь из больницы, я справлюсь в канцелярии и, таким образом, узнаю, был ли это сон или я действительно присутствовал при финале странной драмы, до сих пор продолжающей волновать меня.
А теперь я тороплюсь поскорее записать слышанное и виденное, потому что мой изнуренный мозг грозит утерять детали, как клен, один за другим теряет осенью листья. А без них, без деталей, мертва будет всякая правда...
x x x
Началось с того, что я вышел из пансиона на улицу, томимый предчувствием болезни, приступы которой уже сказывались: звон в ушах, затемненное сознание, в котором рисовалось кольцо пламени, смыкающееся вокруг меня, и я сам - маленький, маленький - стоял в середине, словно в чашечке огненного цветка, чьи лепестки охватывали меня и соединялись над моей головой.
Я мечтал о дожде, о тропическом ливне, который падает с облаков радужного оникса и мягко шуршит в пальмовых листьях. А так как дождь не являлся, а асфальт и стены дышали пеклом, то я ненавидел все окружающее вплоть до зеленых яванских воробьев и индусских полицейских на перекрестках.
А жара тем временем проникла уже в самое сердце, которое билось неровно, с перебоями, иногда, точно в раздумье: не остановиться ли?
Было безумием в таком состоянии появляться на улице, но меня гнало из пансиона взвинченное до крайности воображение: все обиды российского изгнанника кипели во мне, меня бесило все, начиная с надменно-недоверчивых взоров кучки английских чиновников на пристани при высадке, видевших во мне вопросительный знак, человека с врожденным бунтом в крови, банку разрушительных микробов, и кончая ледяным обхождением со мною в пансионе нескольких "мисс", в чьих представлениях я, может быть, блудный сын безнравственной матери, отплясывающей непристойные "цыганские" танцы, а дочери ее и сейчас продолжают соблазнять правоверных иностранцев в вертепах Дальнего Востока...
И я шел в Ка-лун, туземный квартал, стараясь превратить себя в скифа, полуазиата, чтобы прислушиваться там к шипению скрытой ненависти, питаемой цветным населением к белым братьям. Мне хотелось окинуть взглядом сумасшедший бег бурливой реки желтых лиц, стиснутый в узких улочках, и прикинуть в уме, что будет, когда взбеленится эта река в грозу и в сумрачной ярости помчит свои волны к чинным кварталам...