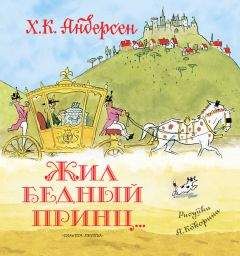Тут месяц заволокло облаком, потом другим, третьим... Так я ничего больше и не услышал от него в этот вечер.
«Я видел одну маленькую девочку! — начал месяц. — Злые люди заставили ее плакать горькими слезами. Ей только что подарили чудную куклу; ах, какую куклу! Но эта нежная, изящная кукла вовсе не была создана для горя, а между тем братья девочки, эти долговязые мальчишки, схватили ее, посадили высоко-высоко на дерево и убежали! Сама девочка не могла ни достать с дерева куклу, ни помочь ей сойти оттуда — как тут не плакать! Кукла, должно быть, тоже плакала! Она с таким жалким видом простирала к девочке руки! Да, вот какие приходится иногда испытывать превратности судьбы, как часто говорит мама. Бедная, бедная кукла! Уже темнело, приближалась ночь. Неужели же оставить ее тут одну на всю ночь? Нет, нет! Сердечко малютки сжималось при одной мысли об этом. «Я останусь с тобой!» — сказала она кукле, а была ведь вовсе не из храбрых! Она уже явственно различала между кустами маленьких домовых в высоких остроконечных шапочках... А там, в темной аллее, плясали длинные призраки!.. Вот они уже под деревом, поднимают руки и указывают пальцами на куклу! Ах, как страшно!.. «Но ведь нечистой силы нечего бояться, если у тебя совесть чиста! — рассудила девочка. — А у меня чиста? Я ничего дурного не сделала?.. Ах, да, — вдруг вскрикнула она, — я смеялась над бедной уткой с красной тряпочкой на ножке! Она так забавно хромает! А грешно ведь смеяться над животными! — И она подняла личико к кукле. — А ты тоже смеялась над животными?» — спросила она, и кукла как будто недовольно качнула головой».
«Я глядел на Тирольские горы! — рассказывал месяц. — От темных сосен ложились на скалы резкие мрачные тени. Я освещал нарисованные на стенах домов гигантские изображения святого Христофора с младенцем Иисусом на плечах и святого Флориана, льющего воду на пылающий дом, освещал и воздвигнутый у дороги большой крест с распятым на нем, истекающим кровью Спасителем. Для молодого поколения все эти изображения — памятники глубокой старины; я же видел, как они возникали одно за другим. Высоко-высоко, над самым обрывом, лепится, словно гнездо ласточки, женский монастырь. На колокольне стояли и звонили в колокола две молоденькие послушницы. Взоры обеих невольно устремлялись вдаль... за горы! Внизу показалась почтовая карета; почтальон затрубил в рог, и бедные послушницы долго провожали экипаж взглядом. Невеселые, видно, думы бродили у них в голове; у младшей на глазах навернулись слезы. Все слабее и слабее звучал почтовый рожок, пока наконец совсем не замер, заглушённый звоном колоколов».
Слушайте, что еще рассказал мне месяц. «Тому минуло уже много лет; было это в Копенгагене. Я заглянул в окно бедной каморки; отец и мать спали; не спал только их маленький сынок. Вот пестрый полог его кроватки зашевелился, и он выглянул оттуда. Я подумал сначала, что он хотел посмотреть на старые часы: они были так пестро раскрашены, наверху сидела кукушка, на цепях висели тяжелые свинцовые гири, а блестящий медный маятник качался и тикал: «тик-так!» Но нет! Мальчик смотрел не на них, а на стоявшую под ними прялку матери. Прялка занимала все его мысли, но он не смел и притронуться к ней — сейчас по рукам попадет! Целыми часами просиживал мальчик возле матери, не сводя глаз с жужжащего веретена и неугомонного колеса и думая при этом свою думу. Вот бы попрясть хоть разок самому! Теперь мать и отец спали. Мальчик поглядел на них, поглядел на прялку, подождал с минуту, потом с кроватки сползла сначала одна голая ножка, за ней другая, и — гоп! обе очутились на полу! Мальчик еще раз оглянулся на папу и маму — спят ли? Да! И вот он, одетый в одну куцую рубашонку, тихонько-тихонько прокрался в угол, где стояла прялка, и давай прясть. Нитка слетела, и колесо завертелось еще быстрее. Я целовал золотистые волосики и голубые глазки ребенка. Прелестная была картинка! Вдруг мать проснулась, выглянула из-за занавески, и ей почудилось, что перед нею шалунишка-домовой или другое лукавое привиденьице. «Господи Иисусе!» — прошептала она и толкнула под бок спящего мужа. Он проснулся, протер глаза и тоже взглянул на мальчугана. «Да ведь это Бертель!» — сказал он.
Из бедной каморки взор мой перенесся в покои Ватикана, где красуются мраморные боги. Расстояния для меня ведь не существует. Вот группа Лаокоона; мрамор, кажется, скорбно вздыхает. Вот музы; они как будто дышат; лучи мои облобызали их мимоходом и остановились на колоссальном изображении бога реки Нил. Облокотясь на сфинкса, он лежит, погруженный в думы — в думы о минувших веках; вокруг него резвятся и заигрывают с крокодилами амурчики; из рога изобилия тоже выглядывает на величественного серьезного бога крошечный амурчик, живое изображение мальчугана, возившегося с прялкой. Те же самые черты! Как живой стоит здесь этот мраморный ребенок, а между тем колесо времени обернулось вокруг своей оси тысячи и тысячи раз с той минуты, как он восстал из мраморной глыбы. И это огромное колесо должно было обернуться еще столько же раз, сколько обернулось колесо прялки, прежде чем век создал других богов, подобных ватиканским.
Вот и минули эти годы! — продолжал месяц. — Я плыл над заливом у восточного берега Зеландии. Там тянутся чудные леса, высокие холмы и лежит старая усадьба, обнесенная красными кирпичными стенами; в рвах, наполненных водою, плавают лебеди. Неподалеку, в тени яблонь, ютится торговый городок с высокой колокольней. По зеркальной глади залива плывет целая флотилия лодок; на всех мелькают огоньки, но их зажгли не для ловли угрей, а ради праздника! С лодок раздается музыка, вот грянула и песня. В одной из лодок стоит сам виновник торжества — рослый, крепкий голубоглазый и седовласый старик в широком плаще. Я сразу узнал его и вспомнил и мраморных богов Ватикана, и бедную каморку, — если не ошибаюсь, в Зеленой улице, — где сидел за прялкой в своей куцей рубашонке маленький Бертель. Колесо времени обернулось положенное число раз, и из мрамора восстали новые боги. С лодок гремело «ура», «ура» в честь Бертеля Торвальдсена !»
«Я поведу тебя сейчас во Франкфурт! — сказал месяц. — Там есть один дом, на котором подолгу покоятся мои лучи. Это не тот дом, где родился Гете,. и не старинная ратуша с решетчатыми окнами, в которые еще глядят рогатые головы быков, зажаренных для народа в день коронации императора. Нет, дом, о котором я говорю, простой дом, выкрашенный зеленой краской. Стоит он на углу узкой Еврейской улицы; это дом Ротшильдов. Я глядел раз в открытую входную дверь; лестница была ярко освещена; по ступеням стояли слуги; они держали в руках массивные серебряные канделябры с зажженными свечами и провожали низкими поклонами старуху, которую несли вниз по лестнице в кресле. Хозяин дома стоял у входа с непокрытой головой и почтительно поцеловал на прощанье руку старухи. Это была его мать. Она приветливо кивнула головой сыну и слугам, и ее понесли по узкой, темной улице домой. Она жила там в крошечном домике; в нем родились все ее дети, в нем занялась для них заря счастья; покинь она эту невзрачную улицу, этот скромный домик — тогда, быть может, и счастье покинет ее детей! Она верила в это!»
Больше месяц не сказал на этот раз ничего; слишком не надолго заглянул он ко мне, но я-то долго потом думал о старухе, обитавшей в темной, жалкой улице. Скажи эта женщина слово, и к ее услугам роскошный дом на берегах Темзы; одно ее слово, и ее ждет вилла на берегу Неаполитанского залива; но она говорит: «Покинь я этот скромный дом, где занялась для моих детей заря счастья, — тогда, быть может, и счастье покинет их!» Это суеверие, но особого рода; чтобы понять его, тому, кто слышал сейчас эту историю и видел эту картину, довольно вспомнить одно слово «Мать ».
«Это было вчера поутру, на заре! — говорил месяц. — В большом городе не дымила еще ни одна труба, а я на трубы-то как раз и глядел. Из одной из них высунулась сначала чья-то голова, а потом и туловище по пояс; руки держались за края трубы. «Ура!» Это был мальчишка-трубочист; он в первый раз в жизни пролез через всю трубу и теперь глядел из нее на Божий свет. «Ура!» Да, это небось не то что карабкаться по узким коленам каминных труб! Ветерок так приятно освежал лицо трубочистика, а уж что за вид открывался ему оттуда! Весь город был как на ладони, а вдали виднелся и зеленый лес. Вдобавок" в ту же минуту взошло солнце. Его круглый, румяный лик глянул в лицо трубочистика; оно так все и светилось от радости, даром что порядком было замазано сажей. «Теперь весь город может любоваться мною! И месяц, и солнце!» — сказал он и замахал метлой».
«Вчера ночью, — рассказывал месяц, — я плыл над одним китайским городом. Лучи мои освещали длинные голые стены, тянувшиеся вдоль улиц. Там и сям в них виднелись двери, но все они были на запоре — что за дело китайцу до внешнего мира! Плотные жалюзи прикрывали окна домов, выходившие на внутренние дворы. Только в окнах храма мерцали огоньки. Я заглянул туда. Какая пестрота! От самого пола до потолка подымались ярко раскрашенные и вызолоченные картины, на которых были изображены земные деяния богов. В каждой нише стояли кумиры, полускрытые пестрыми занавесками и распущенными знаменами. Все кумиры были оловянные; перед каждым возвышался жертвенник, на котором стояла чаша со святой водой, цветы в вазах и горели восковые свечки. В глубине храма помещалось изображение Фу, высшего божества, в балахоне из шелковой материи священного желтого цвета. У подножия жертвенника сидело живое существо, молодой бонза. Он, вероятно, молился, да вдруг задумался о чем-то. Должно быть, дело было нечисто — щеки его горели ярким румянцем, а голова все больше и больше клонилась на грудь! Бедный Суи-Хунг! О чем он задумался? Унесся ли он мечтою в маленький садик, какие красуются здесь перед каждым домом, жалел ли о своем прежнем ремесле, желал ли опять работать на воле, вместо того чтобы вечно сидеть тут в храме, наблюдая за горящими восковыми свечками?.. Или он мысленно пировал за роскошно убранным столом, вкушая тонкие блюда и обтирая губы серебристой бумагой? Может быть, мысли его были до того греховны, что, выскажи он их, небо покарало бы его смертью? Может быть, он дерзнул унестись мысленно на корабле варваров в их отчизну, далекую Англию? Нет, так далеко он не залетал, и все же мысли его были так греховны, что греховнее их и не могла бы подсказать человеку горячая молодая кровь! И где же он предавался им? В храме, перед лицом Фу и других богов! Я знаю, где витали его мысли. На краю города, на плоской крыше, обнесенной блестящими, словно фарфоровыми, перилами, между вазами с чудесными душистыми белыми колокольчиками сидит красавица Пэ. Узенькие, плутовские глазенки, полные сочные губки и крохотная ножка! Башмачок жмет ножку, но куда больнее сжимает тоска сердечко! Тоскливо заламывает она нежные, словно выточенные ручки, и атласные рукава громко шуршат. Перед нею стеклянная ваза с водой; в воде плавают четыре золотые рыбки. Пэ медленно и задумчиво помешивает воду пестрой лакированной палочкой. Может быть, она задумалась о рыбках: как ярко блестит их чешуя, как спокойно им живется в стеклянной вазе, как сытно их кормят... и все же куда счастливее жилось бы им на свободе! Да, именно об этом и думала красавица Пэ. Затем мысль ее унеслась из родного дома в храм, но привлекли ее туда не боги. Бедняжка Пэ! Бедняга Суи-Хунг! Земные мысли ваши встретились, но, словно меч херувима, блеснул и разделил их мой холодный луч!»