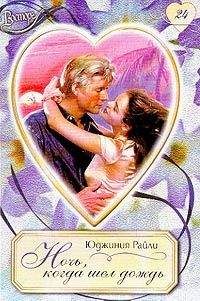Позже седлецкая полиция пыталась воспроизвести ход событий. Урсула снова и снова повторяла одно и то же: "Мы купались, а я заснула на берегу". "А Лукаш?" - спросил комендант полиции. Когда он сбежал, разбуженный криками Урсулы, с пригорка, где спал после обеда, то спасти смог только ее. Врач действительно констатировал внезапную судорогу, после которой тело подводным течением затянуло в переплетенные у дна корни дерева. Если бы помощь пришла раньше... "Если бы!" - вздохнул комендант полиции. На похоронах за гробом шел только пан Витольд; он был вдовцом и отцом единственного сына; других родственников в ближайшей округе не оказалось. За ним в некотором отдалении шли Лукаш и Урсула.
Эту дату он помнил; впрочем, забыть ее было трудно - 1 декабря 1939 года. Погода стояла паршивая, шел дождь вперемешку со снегом и ледяными шариками града. Лукаш сидел в теплой конторе у окна, рядом с входной дверью. Визита пана Витольда он не ожидал.
Управляющий небрежно поклонился, скинул мокрую шубу и сел у яркого огня, вытянув перед собой во всю длину ноги в сапогах с голенищами. Он долго молчал, вглядываясь в пламя и растирая замерзшие руки. После чего сказал:
- Видите, какая складывается ситуация. В Рыбицах - отделение немецкой полиции, они оставили только одного полицейского-поляка. Но это для вас не новость. А вот вчера мне сказали, что сюда приезжает немецкий управляющий, чтобы вести дела вместе со мной. Вам как хозяину будут каждый месяц выплачивать определенную сумму. В Седльце уже определяют границы гетто. Вчера на рынке публично расстреляли двоих самых богатых еврейских торговцев, в том числе деда пани Урсулы. За грабительские цены, что народу очень понравилось. Скорее всего, часть седлецкого немецкого командования займет одно крыло вашей усадьбы.
Он замолчал, будто раздумывая, продолжать ли дальше. Решив продолжать, подвинул стул к столу, за которым сидел Лукаш.
- Вы знаете, моему покойному сыну очень нравилась пани Урсула. Я думаю даже, что не только "нравилась". В нем постепенно зарождалось и более глубокое чувство. По-моему, оно было не без взаимности. Поэтому я, отец Богдана, ощущаю ответственность и за вашу сестру. Вчера в одной седлецкой пивной, где люди добрым словом вспоминают вашего уважаемого отца, завязался разговор о матери пани Урсулы. Знаете, как это бывает: слово за слово, да злые языки... Моя семья всегда водила дружбу с семьей Клебанов. И это тоже имеет значение. Так вот: и наша дружба, и память о Богдане обязывают меня, как бы это сказать, ну, в общем, предостеречь вас. Пани Урсуле необходимо как можно быстрее отсюда исчезнуть.
Ни минуты не мешкая, Лукаш поехал в бричке на седлецкий вокзал. Единственный поезд в Варшаву, предназначенный для "местного населения", отправлялся в шесть вечера. К счастью, уже после наступления темноты. Поговорив с Урсулой, Лукаш понял, что она не ощущала ни малейшего беспокойства из-за возможной опасности. Свою мать она из памяти практически вычеркнула. И никто даже не сообщил ей о расстреле деда, который, впрочем, при жизни вовсе не стремился с ней встречаться.
На Сенную, к тетке Евгении, они приехали без предупреждения. Тетка была не в восторге от появления Урсулы, но необходимые приличия соблюла. Уже наступил комендантский час, и варшавскую "рекогносцировку" Лукаш отложил на следующий день. Немногие варшавские коллеги по театральному институту, ошеломленные молниеносным сентябрьским поражением, склонялись к тому, чтобы остаться в столице и присоединиться к тем, кто уже ушел в подполье. Лукашу повезло: он застал в Варшаве, в своей квартире на Сенкевича, Леопольда Гиллера. Оказалось, что тому негласно предложили руководить польским театральным центром в Гродно, и он уговаривал режиссеров, актеров и художников ехать с ним. "Поедем вместе, - сказал он Лукашу, - ведь мы в похожей ситуации (он намекал на Урсулу, имея в виду, с другой стороны, свою жену). Там обещают относительную свободу в выборе репертуара, жилье и сносные деньги". Долго Лукаш не раздумывал. Однако в Рыбицы он все же съездил - поговорить с паном Витольдом и забрать чемодан с самыми необходимыми для Урсулы и для себя вещами.
10 декабря они не без труда, через Малкиню и Белосток, добрались до Гродно. Гиллер уже развернул здесь свою деятельность. Лукашу и Урсуле отвели большую комнату с двумя окнами на первом этаже флигеля в полукруглом заваленном снегом дворике. Рядом жили две актрисы, а последнюю на этаже комнату занимал театральный художник с женой. В углу двора высилась поленница, а рядом - колода с топором. Напротив дома располагалось большое кафе, которому вскоре предстояло стать местом встреч польского театрального сообщества в Гродно .
Мэри с удивлением следила за ним в приоткрытую дверь, ведущую из кухни в гостиную. Он сам поднялся с кресла у камина, взбодрившийся и помолодевший, проворно и с явным удовольствием передвигался по комнате, не придерживаясь, как обычно, стен, практически не пользовался тростью и не торопился вернуться в кресло. При этом он беспрерывно повторял одно слово, которое она не могла понять и была бы не в состоянии повторить.
Словом этим было Гродно. Гродно, Гродно. Добравшись до гродненского раздела автобиографии, он заранее радовался тому, что ждет его в продолжающемся безмолвном повествовании.
Можно ли влюбиться в неизвестный город с первого взгляда? Оказывается, можно. В Гродно ему нравилось все, хотя - видит Бог - особых оснований для этого не было. Временами хотелось сказать: город построен так, чтобы нравиться, с некоей кокетливой скромностью. Они гуляли с Урсулой над Неманом, скользя взглядом по заледеневшим берегам, дружно отпрыгивали, когда с веток внезапно ссыпался снег, то и дело возвращались в зеленую с позолотой церковку, задерживались перед обветшалыми особняками, заходили в шумные заведения с новыми вывесками "Gorodskaja Stolowaja", где долго сидели за тяжелыми грязноватыми столами, зная, что выпить можно только пива, хотя и в больших количествах, и согревались в приподнятой атмосфере разноязыких бесед. В чем заключался секрет Гродно? Для Лукаша, возможно, в детских воспоминаниях о Костроме, а для Урсулы - в обретенном покое на фоне уже явившего себя образа войны. Местные жители были даже сверх меры сердечны, хотя оборотная сторона этой сердечности должна была показать себя в самом ближайшем будущем.
Церквушку они полюбили, хотя и не знали православных обрядов (крещенный в костромской церкви Лукаш не успел их освоить). Им просто нравилось рассматривать золоченые оклады икон, слушать время от времени пение басов и наблюдать за попами и дьячками. Верующих всегда было немного - обычно приходили старушки с пугливо бегающими глазами. Наверное, именно в гродненской церкви они начали подозревать, что за приятным фасадом кроется нечто иное.
Как-то раз они поехали в близлежащую деревню Соколки, где кузина Урсулы учительствовала в начальной школе и ждала с войны своего мужа, тоже учителя. Их восьмилетний сын постоянно молчал, а на его симпатичном личике прочитывался явный страх. Боялась и кузина, чего вовсе не скрывала, всем своим поведением давая понять, что визит родственников должен быть как можно более кратким.
Страх, хоть и тщательно маскируемый, постепенно выходил наружу и в самом Гродно; иногда за ним проглядывала недоброжелательность. Зачем все эти артисты приехали сюда из Варшавы? Что они, не знают, кто здесь у власти? Не знают, кому им придется служить и как их будут использовать теперь , после включения Западной Белоруссии в состав Советского Союза? Однако отношение к ним мало-помалу менялось. И не последнюю роль сыграл в этом именно "польский театральный Пьемонт".
Поначалу театральная программа разрабатывалась под руководством Леопольда Гиллера в кафе напротив дома, в котором жили Лукаш и Урсула. Так что на первых порах, вплоть до нового 1940 года, это кафе было центром польской театральной жизни в Гродно. Дискуссии о предлагавшихся для постановки пьесах чередовались с ежедневным обсуждением свежих, становившихся все более ужасными новостей из Варшавы. Демаркационная линия между оккупированными территориями пока не была зафиксирована строго, что означало ежедневный приток новых беженцев из-за Буга. Когда в один прекрасный день в Гродно появилась Великая Актриса и жена Гиллера, передвигавшаяся с помощью костыля - она была ранена в ходе сентябрьской кампании, - директор тут же предложил поставить "Коварство и любовь" Шиллера, пьесу, в которой она раньше блистала. На премьере, в конце февраля, актриса вышла на сцену в том же, что всегда, сценическом костюме, но с костылем. Вся публика сорвалась со своих мест и несколько минут ей аплодировала; это повторялось и на всех последующих спектаклях. Именно тогда, по мнению Лукаша, и произошел перелом. Артисты из Варшавы были в Гродно приняты.
Вскоре после премьеры "Коварства и любви" Гиллер освоился в директорском кабинете на задах театра, и кафе естественным образом утратило свою прежнюю роль. Оно вновь превратилось в обычное кафе, а театр (со столовой в подвале) начал притягивать прибывающих "с той стороны" и немногочисленных местных "работников искусств" (советский термин).