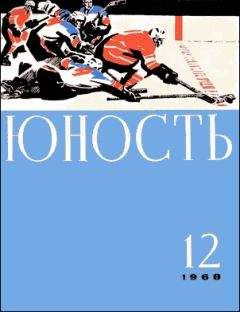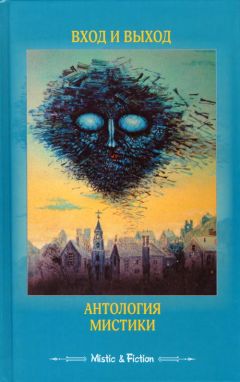— Не сачкую, шеф, все законно. Петров прихворнул — нас отпустили.
Он выходит из комнаты, разогревает еду. Шефу полагается есть всегда в одно и то же время.
— Почему он называет тебя шефом? — спрашиваю я.
— Не знаю... Так уж повелось. Шеф да шеф. Могучий у него шеф, нечего сказать.
Позднее я как-то спросил об этом же у Миши: почему такая кличка? Он улыбнулся, помялся:
— Да как-то так уж привыкли.
Потом мы с ним разговорились, и он сказал мне:
— Понимаете, у нас отца ведь нет, Эрик в семье старший, вроде бы глава семьи. Без него ни мать, ни я ничего не решаем. Когда я в институт поступал, думали, гадали, какой из технических выбрать и, конечно, что шеф скажет. Или, например, какая заварушка у меня на работе — я ведь учусь и работаю, — сразу к шефу. Как быть? Или с кем подружился я, например, привожу этого парня домой, с шефом знакомлю.
Да и мать Эрнста мне рассказывала, что Миша даже интонации старшего брата перенимает...
Представьте себе ситуацию: мальчику семь лет, его брату девятнадцать. Брат болен, на костылях. Мальчик знает, что, кроме игр, беготни, солдатиков, есть еще это: дай Эрнсту, принеси Эрнсту, помоги Эрнсту. Мальчик растет, учится в школе. А старший брат ходит все хуже и хуже, все больше лежит, все чаще глаза у него неподвижны, расширены болью. В доме всегда запах больницы. Таков фон, на котором растет Мишка. Он постепенно становится нянькой: подмести, принести, взять, убрать. Движения его почти профессиональны, это движения сиделки. Он видит: мать разрывается на части — работа, болезнь Эрнста. Он знает это сызмальства. Ему не надо втолковывать. Он уже это понял, хотя и не без срывов. Как он должен относиться к брату? С жалостью? Да, конечно. Но не совсем так...
Кто объяснит тебе задачу, да так терпеливо и спокойно, как и учительница не объяснит? Брат. Кто соберет тебе первый твой приемник? Брат. Эрик. К кому ты прибежишь, побитый мальчишками, преданный своим лучшим дворовым корешем, не сумевший дать сдачу, отомстить? К брату. И он скажет тебе: «Дурачок, вытри сопли. Главное в нашем деле — не трухать».
И кто еще тебе расскажет весь состав московского «Динамо», в котором они ездили в Англию после войны и выиграли две встречи при двух ничьих? И кто еще разорвет летний список для внеклассного чтения и скажет: «Ненавижу типов, которые читают книги по рекомендательным спискам. Когда они становятся взрослыми, у них даже усы не растут»? «Как не растут, разве это связано?» — растерянно спросит младший брат. «Да, это все взаимосвязано в природе», — ответит старший. И кто будет подкладывать тебе свои взрослые книги, не рекомендованные никем, только старшим братом, Эриком? И когда учеба, работа или что иное покажется тебе вдруг непосильным, невозможным, когда ты почувствуешь себя трусливым, маленьким, слабым, когда ты соврешь или кого-нибудь чуть-чуть (не всерьез) предашь, ты подумаешь о ком? О великих, которые не были такими? Скорее всего ты подумаешь о шефе. Почему? Да просто так, хотя он ничего такого особенного не делал. Просто ты вспомнишь, как он сдавал экзамен на филфак, как он лежал и занимался. Как он переписывал свои работы, чтобы послать их педагогам. И как ждал, что педагоги приедут. И как они часто не приезжали. И как он снова ждал, что они приедут. И снова переписывал. И ночью писал что-то для себя. А утром, днем и вечером ему делали уколы и процедуры. И как он ждал друзей и как умел им прощать, если они не приходили, если забывали... И как он расставался с матерью и братом, когда его забирали в очередной раз в госпиталь, как дружески, весело прощался потому, что это ненадолго, просто еще немножко поваляется в лазарете и тогда начнет все по-новому: главное в нашем деле, Мишка, не трухать.
И возвращался из госпиталя похудевший, обросший щетиной. И Мишка брил его, а утром, на рассвете, бежал для него в киоск за «Советским спортом», а вечером играл с ним в шахматы.
И почему-то, если Мишка читает книгу или смотрит кино и что-то его задевает, он ловит себя на мысли: а что бы тут он сказал? Как бы это ему, шефу?
Миша кормит Эрнста, уносит посуду, уходит в другую комнату. Слышно, как жужжит его электробритва. Потом он появляется, свеженький, вечерний, в белой рубашке, в галстуке.
— Ты что, футбол по телику не будешь смотреть? — говорит Эрнст.
— А кто сегодня?
— Ты что, забыл? Сегодня Киев с ЦСКА. В Киеве.
— Да, действительно... Жалко.
— Чего жалко! Оставайся дома, поглядим, как наши припухать будут.
— Нет, шеф, сегодня не могу.
— Спецзадание? — говорит Эрнст.
— Может быть. Ну, пока. Я пошел... — Мишка кивает нам, ослепительный, целеустремленный и нездешний. — Мать скоро придет.
Он уходит. В окно я вижу, как он бежит, перепрыгивая через лужи, как по привычке оборачивается, смотрит на свое окно и бежит дальше. Шаг его размашист и нетерпелив.
— Весна, — говорю я.
— А как же, — задумчиво говорит Эрик. — Без этого нельзя.
На столике рядом с кроватью Эрнста книги, журналы, газеты. Среди пестрых тонких журналов с гимнастками на обложках, серых канцелярских тетрадок толстых журналов, среди ликующих «Совэкранов» вижу толстые тома какого-то академического, старого издания. Беру верхний том: Бенедикт Спиноза.
— Ну даешь, шеф, — говорю я.
— А что... Дней моих, как говорил Бунин, на земле осталось уже немного, вот и хочу окунуться в реку бессмертия. Не вас же мне, современных факиров на час, читать, вы приходите и уходите, попищите и притихнете, пощекочете нервы на пять минут и все, а Барух д'Эспиноза остается.
— Так вот ты как заговорил, — в тон ему отвечаю я и чувствую, что во всем этом периоде меня резанула не ирония к нашему брату, а Бунина: дней моих на земле...
— Я раньше делил книги как бы на две группы. Первая: прочесть сейчас, вторая — когда-нибудь. К первой относились периодика, нашумевшие вещи, мои собственные любимые авторы, за которыми я слежу, интересные переводные произведения. А ко второй — так называемые истинные ценности, знаешь, то, на что пишут шпаргалку в университете. «Ограниченность позитивного взгляда энциклопедистов состояла в том...» и т.п. и т.д. В чем ограниченность — уже знаю, а почему мы все-таки их проходим, хотя они и померли бог знает когда, вот этого толком не знаю. И в голове только остаются прекрасные фамилии — Монтень, Шарль де Монтескье. И еще знаю, проходил, что задолго до них жил да был этот самый великий голландский философ-материалист Бенедикт Спиноза и что его травили. Ну травили и травили. И все я откладывал это на потом, думал: сейчас не до того. Дела, зачеты, экзамены, хлеб насущный, Отложим на потом. Но с течением времени я понял, что на потом откладывать нельзя. Как я уже говорил тебе, «потом» не бывает.
И появилась тяга к тому, чтобы немножко больше разобраться в самом себе, в этом самом странном «я», которое все время неотступно с тобой и за пределы которого так хочется иногда выскочить. И начинаешь ночами думать, думать о всякой чертовне, о себе самом, о друзьях твоих и о том самом, что так просто и понятно называется: смысл жизни. И на помощь своим бедным, уже одичавшим мозгам и своему довольно-таки куцему жизненному опыту призываешь великие умы и иные жизненные опыты. И вдруг хватаешься за башку: да ведь это я ощущал, ведь и со мной было, только я не умел это сформулировать. Как же это так, вон сколько изменилось за эти века, сколько перевернулось в мире. И «Персидские письма» Монтескье при всем своем величии уже во многом стали музейными, устарели, и общественные отношения изменились, а вот открываешь Спинозу и читаешь: «Зная, в чем состоит добро и зло, истина и ложь, и в чем заключается счастье совершенного человека, можно уже перейти к исследованию самих себя и рассмотреть, достигаем ли мы такого счастья добровольно или принудительно».
— Зная, в чем добро и зло... Он уже знает, а я еще нет. Но я тоже ведь должен это понять и прийти хоть частично к такому знанию. И тоже что-то должен оставить после себя, чтобы и мой несчастный опыт тоже хоть на капельку кого-нибудь просветил. Насчет опыта, он у меня, конечно, однообразный, но по линии испытаний я могу потягаться с кем хочешь, даже с Уриелем Акостой.
Когда я пробился сквозь университетский конкурс, многие удивлялись. Смотри какой упрямый! А зачем ему это? Но я-то знал зачем. Я занимался тогда изо всех сил...
Учителя, приезжавшие ко мне принимать зачеты, удивлялись, глядя на меня, бледнели и тут же хватались за ручки, чтобы, не спрашивая, поставить зачет. Не все, конечно, но были и такие... Одному я сказал: «Не надо так, из милосердия. Вы меня проэкзаменуйте сначала, я ведь кое-что знаю. Я же тут месяцами сидел над этим. Так зачем же мне теперь одалживаться?»
И он спрашивал. Я отвечал. Потом он говорил всякие слова, и извинялся, и объяснял мне, какой я сильный человек. А «сильный человек» в пятьдесят пятом году снова загремел в ортопедический госпиталь. Там был профессор Чаплин. Он мне говорил: «Тебя рано загипсовали, заложили в колодки, лишили движения. Мускулы твои от всего этого за годы стали ватными... И все-таки заставляй себя, лежа, напрягать мускулы ног, будь немножко йогом, Эрик».