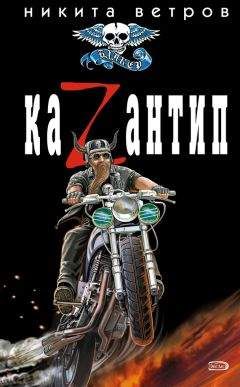Класс затаил дыхание. Все глаза, разноцветные, но с одинаковым выражением, пытливые, чуть восхищенные, немного недоумевающие (никак не могут согласиться, что она, такая молодая,? учительница) смотрят на нее.
А она говорит, говорит… Опять волнуется. Но это уже какое-то совсем иное волнение, не то, что она испытывала перед уроком, на парализующее, а мобилизующее всю ее энергию, радостное, вдохновляющее, доселе не испытанное ею. Говорила бы, говорила… Только сильно пересыхает во рту. И большая стрелка квадратных часов над доскою очень быстро, толчками движется по кругу. Скоро раздастся господствующий над всеми в любой школе звонок. Звонок с урока…
— Теперь запишем кое-что в тетради,? сказала Юлия уже вполне спокойно, мягко, вовсе не приказным тоном, но ученики поспешно, словно по команде, раскрыли тетради, прямо-таки схватили ручки. Они признали ее учительницей, смирились с ее молодостью. А среди них есть и немолодые, бывалые. Вон тот мужчина в углу у окна. Чуб упал на лоб, открыв седую прядку. Он тоже подчиняется ей, разве что смотрит на нее не так, как все. Несколько покровительственно и снисходительно, как старший брат.
Рабочие… Какие это замечательные люди! Как она боялась, что они встретят ее в штыки, начнут испытывать на первом же уроке и она, опростоволосившись, вылетит из класса, как пробка из бутылки, вышибленная сильным ударом…
И вот все опасения позади. Ни одного замечания за 45 минут. Все отлично, все прекрасно.
— Работа
Я открыла дверь в учительскую. Травина?! Зачем она здесь?
Сердце ответило громким стуком.
Травина повела головой в мою сторону. Я заставила себя сказать ей: "Здравствуй!"? и быстро прошла в комнату, смежную с учительской. Села.
Травинка здесь. Значит, ученики ходили к директору жаловаться на меня. Он вызвал ее из отпуска по беременности! "Спасать положение".
Вот как меня встретила школа… В которую я так рвалась. Сейчас она залита ровным, мирным шумом. Это не детская школа, где на переменах ребятишки с гиканьем носятся по этажам. Здесь учащиеся кучками стоят у подоконников, не прячась курят на лестничных площадках. Рокочут мужские голоса, взвиваются женские. Сталкиваясь с мужскими, женские разбрызгиваются в смех.
Когда прозвенит звонок, ученики побросают недокуренные папиросы и быстро разойдутся по классам. Тихие, опустевшие коридоры будут напоминать русла пересохших рек.
В кабинетах ученики займут свои места. У каждого из них в классной комнате есть свое место. Только у меня его там нет.
И они не хотят, чтобы я занимала место Травиной. Даже временно Они не хотят! "Вы диктуете непонятно! А вот наша Нина Гавриловна диктует!"…
Я знаю, как она диктует. По слогам! Я не хочу "диктовать понятно". Я хочу понятно объяснять!
Наша Нина Гавриловна…
Я знаю ее.
Я работала с ней вместе два года назад. Тогда, весной, перед проверкой экзаменационных сочинений директор сказал нам:
— Будьте честными, но не скупитесь.
И Травина не скупилась. Она соскоблила лезвием и "сдула" все "лишние" ошибки своих учеников.
Травина и мне предложила заняться тем же. Я отказалась. Тогда она сказала мне:
— Ты меня на три года глупее!
…Я почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Травина. Она рассматривала меня. Ее взгляд удовлетворенно отмечал серые пятна, следы переутомления и бессонницы, у меня на щеках.
Улыбка тронула мои губы.
— Вот что!? оборвала она мою улыбку.? Директор предложил, и я согласилась не брать очередной отпуск сразу после декретного. Это значит? я выйду в апреле.
Это означало, что в апреле я останусь без школы…
Моя рука потянулась к клочку бумаги на подоконнике. Я взяла его, смяла и бросила в проволочную корзину под столом.
Звенел звонок, повелительный, холодный, напористый.
— Откройте тетради,? сказала я, когда все уселись.? Сегодня будет небольшой диктант. Запишите заголовок. Легенда об Ангаре и Енисее. По Анатолию Кузнецову.
Я сошла с кафедры и посмотрела в окно.
Шел снег. Первый снег. Он летел стремительно, почти пологими полосами и густо посыпал землю, ободранную осенью. Казалось, природа, не удержав зеленое, торопится хотя бы прикрыть черное белым…
Я стала читать. Читала и не слышала своего голоса. А когда кончила и посмотрела на учеников, мне показалось: они сами видели все, о чем я читала. Они еще видят. У них большие, какие-то наполненные и неподвижные глаза. В них как будто еще отражаются и зеленые, гордые леса Сибири, и холодные белые скалы, и прозрачная зеленовато-голубая, как в море, вода непокорной красавицы Ангары.
А может, кто-нибудь из них и вправду видел все это? Может, кто-то из них был там, в Сибири, когда покоряли Ангару?
…Я диктую. Они пишут, тихие, безропотные, все еще во власти услышанного. Их головы склонены над столами. Ничем не защищенные от моего взгляда макушки. Светлые, темные, густоволосые, лысеющие… Слипшиеся волоски, пучочки вихров…
Это даже трогательно. Но я вижу их руки, кисти их рук, широкие, каменно-мускулистые, их ногти, обведенные черным. Я вздыхаю кисловатый и терпкий запах завода, исходящий от них, и невольно выпрямляюсь, расправляю плечи.
Перья автоматических ручек быстро и плавно бегут по бумаге, ритмично перескакивая с одной строки на другую. Бегут, бегут, бегут…
Но вдруг начинают вздрагивать, замирать, приподниматься над строчками, возвращаться назад? черкать зло, ожесточенно.
Я впиваюсь пальцами в книгу.
Р-раз!
Как по команде, ручки плашмя ложатся на столы. Руки подлетают над столами.
Крик! Кричит весь класс. Слов понять нельзя.
Я стою, как вкопанная. Как стояла перед своими выпускниками два года назад, когда они мне заявили, что я не должна была ставить двойки. Ведь в других десятых не было двоек! А целый год у меня с ними были такие хорошие отношения…
Эти кричат, а я вспоминаю других, лица с большими ртами, руки, мелькавшие у меня перед глазами. Мускулистые, разозлившиеся руки с засученными рукавами рубах. А я ждала в конце года цветов…
И тогда я бежала из школы. Два с половиной года я не входила в школу. Я хотела прожить без нее. И не смогла. А встретила она меня так же, как и проводила…
Они протестуют. Каждый день. И утром, и вечером. Каждый день и утром, и вечером одно и то же. Как один и тот же спектакль, в котором я играю одну и ту же роль.
Как трудно играть в жизни свою роль! Играть, не фальшивя. Наверное, на сцене играть легче. В спектакле можно быть кем угодно. И оставаться самим собой. Можно быть кем-то, не имеющим совести, и оставаться честным человеком. Можно совершать подлости на сцене, а своей игрой приносить пользу людям. В спектакле, но не в жизни…
Они все еще не замолчали.
Они не хотят мириться со мной даже до апреля. Они хотят, чтобы все было, как прежде. Чтобы я читала по слогам. И они будут тихими и послушными и будут звать меня по имени-отчеству. Неужели я этого не понимаю?!
Неужели они не поймут, что я так но могу и не хочу? Неужели они не перестанут кричать? Снова придется бежать?
Нет!
— А если бы…? заговорила я, и стало тихо.? Если бы вам в магазине, вместо хлеба, давали одну оберточную бумагу?
— Сравнили!
— Это одно и то же! Довольно! Подсказывать, как писать, я не стану! Я буду учить писать!
Тишина… Враждебная тишина. Злые лица, Сжатые зубы. И лишь кое-кто насмешливо оглядывает класс. Вон тот парень в углу, бритоголовый, с буграми на лбу, у переносицы.
— Подумайте! Товарищи! Да если бы я не верила, что смогу вас чему-то научить, разве бы я стояла на своем…
Чуть расслабляются напряженные мускулы лиц. Руки успокаиваются на столах. Но в глазах досада и безнадежность.
— Продолжаем диктант. Один ученик будет писать на доске.
Я хочу вызвать к доске парня с буграми на лбу. Но не могу вспомнить его фамилию. Открываю журнал. Ученики роняют головы. Читаю список сверху вниз и снизу вверх. "Нестеров!? вспоминаю я? Да. Нестеров".
— Нестеров!
Парень встает из-за стола. Остальные облегченно откидываются к спинкам стульев. Нестеров быстро, но как-то неровно идет к доске. На лице злость. От чего? Оттого что ноги непослушны?
Он останавливается у доски и с отвращением глядит на длинный, пиленый, как сахар-рафинад, мелок. Словно его предстоит проглотить.
Я кладу книгу на кафедру и диктую наизусть. Нестеров пишет. Белая пыль сыплется на пол.
На доску ложатся слова. Но я не узнаю их. На доске слова-инвалиды, слова, взывающие о помощи.
В классе тихо. Нестеров держится зa доску. Он путается в предложении, ладонью стирает написанное. Бугры над переносицей побагровели.
Время от времени я подаю ему, как руку, наводящий вопрос. Он то хватается за мою мысль, то пытается соображать сам.
Класс напряженно следит за нами. Сначала молча, потом бросая реплики.
Нарастает шум. Шум солидарности. Деятельный, азартный, рабочий шум! О! Он захлестывает меня, он подхватывает меня и несет. Несет к ним. Кто-то восклицает: