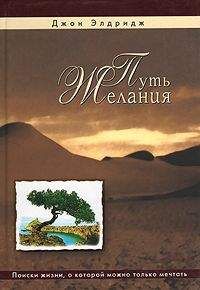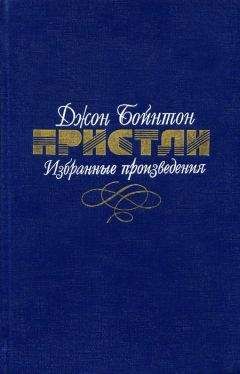Настоятель собственными руками заколотил в дверь несколько гвоздей, которые ему услужливо подали монахи, прибив ее к косяку так, чтобы ее уже больше никогда нельзя было открыть; вне всякого сомнения, он был убежден, что с каждым ударом молотка ангел-обвинитель вычеркивал из списка какой-нибудь из его грехов. Вскоре дверь была заколочена наглухо. Услыхав шаги в коридоре и удары в дверь, несчастные жертвы испустили крик ужаса. Они решили, что их выследили и что теперь разгневанные монахи хотят выломать дверь. Но едва только они обнаружили, что дверь заколотили, и услыхали, как потом удалялись и стихали наши шаги, как опасения эти уступили место другим, более страшным. Еще раз я услышал их крик. О, сколько в нем теперь было отчаяния! Они уже знали, на какую участь их обрекли.
Это было моим послушанием (нет, - моим наслаждением) присматривать за этой дверью якобы для того, чтобы исключить для них всякую возможность побега (они-то знали, что такой возможности нет); но в действительности дело было не только в том, что на меня возлагалась постыдная обязанность быть монастырским тюремщиком; я должен был еще приложить все силы, чтобы сердце во мне очерствело, нервы притупились, чтобы глаза привыкали на все смотреть равнодушно, а уши - столь же равнодушно все слышать, - для новой моей должности все это было необходимо. Но они могли бы избавить себя от лишних трудов: все эти качества были у меня еще задолго до того, как я попал в монастырь. Если бы даже меня сделали его настоятелем, я бы все равно нашел время присматривать за этой дверью. Вы скажете, что это жестокость, а по-моему, это любопытство - то самое любопытство, которое делает тысячи людей зрителями трагедии и заставляет самых нежных женщин наслаждаться исступленными стонами и предсмертными корчами. У меня было одно преимущество перед ними: и стоны и муки, которыми я наслаждался, были настоящими. Я стал на свой пост у двери - у той двери, на которой, как на вратах Дантова ада, можно было бы написать: "Оставь надежду навсегда!" {6}, я стоял там, потешаясь над своим послушанием и испытывая истинное наслаждение от того, что эти несчастные претерпевали у меня на глазах. До слуха моего доносилось каждое их слово. Первые часы они еще старались как-то друг друга утешить, они ободряли друг друга надеждой на освобождение, и когда моя тень, пересекая порог, загораживала свет, а потом снова открывала ему доступ, они говорили: "Это он"; когда же это движение возобновлялось и они видели, что оно ни к чему не приводит, они сокрушенно шептали: "Нет, это не он", и каждый старался подавить в себе рыдание, чтобы другой ничего не заметил.
Вечером пришел монах, который должен был меня сменить, и принес мне еду. Я бы ни за что на свете не согласился уйти оттуда сам; мне, однако, удалось договориться с этим монахом: я сказал ему, что хочу продлить свое послушание и решил остаться там на всю ночь с разрешения настоятеля. Он обрадовался, что так легко ему отыскалась замена, а я был рад принесенной им еде, ибо успел уже проголодаться; что же касается души моей, то для нее я готовил другую, более сладостную поживу. Поедая принесенную мне пищу, я упивался снедавшим их голодом, о котором они, однако, ни словом не обмолвились в своем разговоре. Они о чем-то спорили, о чем-то размышляли и, так как человек в беде становится изобретательным и старается поддержать в себе дух, под конец стали уверять друг друга, что не может быть, чтобы настоятель запер их там и обрек на голодную смерть. При этих словах я не мог удержаться от смеха. Они услыхали этот смех и тут же умолкли. Всю ночь, однако, до меня доносились их тяжелые вздохи, то были вздохи, вызванные физическим страданием, перед которыми все вздохи самых страстных влюбленных просто ничто. Они продолжались всю ночь. Мне доводилось когда-то читать французские романы со всей их невообразимою чепухой. Сама госпожа Севинье признается {7}, что ей было бы скучно долгое время путешествовать вдвоем с дочерью, но возьмите двух любовников и посадите их в тюрьму, где у них не будет ни еды, ни света, ни надежды, - и да буду я проклят (что, впрочем, уже свершилось), если они не опротивеют друг другу в первые же двенадцать часов.
На следующий день холод и мрак возымели свое действие, да иначе и быть не могло. Узники принялись кричать, моля, чтобы их освободили, и стучали в тюремную дверь - громко и долго. Они восклицали, что готовы подвергнуться любому наказанию. Накануне еще они больше всего боялись, что придут монахи, теперь они на коленях призывали их к себе. Какой насмешкой над человеком оборачиваются самые страшные превратности его жизни! Они молили теперь о том, чего всего сутки назад хотели избежать любой ценой. Потом голод стал мучить их все сильнее, они отошли от двери и стали ползать по полу поодаль друг от друга. _Поодаль!_ Как я подстерегал этот миг! Немного понадобилось времени, чтобы их разделила вражда. О, какое это было для меня наслаждение! Он не могли скрыть друг от друга всей мерзости одолевавшего их обоих страдания. Одно дело, когда любовники восседают на роскошном пиршестве, и другое - когда они валяются во мраке, обуреваемые голодом - чувством, таким непохожим на тот аппетит, который приходится возбуждать всяческими приправами; даже сошедшую с неба Венеру голод может заставить отдаться за кусок хлеба. На вторую ночь они бредили и стонали (как то уже случалось), но в разгаре всех этих мук (надо отдать справедливость женщинам, которых я ненавижу так же, как и мужчин) муж часто обвинял жену в том, что она виновница всех их страданий, жена же ни разу его ни в чем не упрекнула. Стоны ее, правда, могли стать ему горьким упреком, но за все время она не произнесла ни единого слова, которое могло бы причинить ему боль.
Однако в проявлениях их чувств произошла перемена, которая не укрылась от моих глаз. Первый день они льнули друг к другу, и в каждом их движении можно было ощутить, что оба они составляют нечто единое. На другой день мужчина боролся за жизнь уже один, женщина только беспомощно стонала. На третью ночь - можно ли это все рассказать?.. Но ведь вы же сами просили, чтобы я продолжал, - они прошли сквозь исполненную ужаса и отвращения пытку - пытку голодом; она постепенно разрывала все связующие их нити - любви, страсти, добросердечия. Обуреваемые муками, они возненавидели друг друга, они, верно, стали бы осыпать друг друга проклятьями, если бы у них хватило на это сил. На четвертую ночь я услышал отчаянный крик женщины: любовник ее, не помня себя от голода, впился зубами ей в плечо; лоно, на котором он столько раз вкушал наслаждение, превратилось теперь для него в кусок мяса.
- Ты еще смеешься! Чудовище!
- Да, я смеюсь над всем человечеством и над тем обманом, на который пускаются люди, когда разглагольствуют о сердце. Я смеюсь над человеческими страстями и человеческими заботами, над добродетелью и пороком, над верою и неверием; все это порождение мелких предрассудков, ложных положений, в которые попадает порой человек. Испытанный хотя бы раз голод, строгий отрывистый урок, который мы слышим из бледных и сморщенных губ нужды, стоит всей логики несчастных пустозвонов, которые самодовольно болтали об этом, от Зенона до Бургерсдиция {8}. О, за один миг он затыкает рот всей жалкой софистике, этой надуманной жизни с ее обескровленными чувствами. Если бы даже весь мир стал на колени и принялся уверять эту пару, что они способны жить друг без друга, и ангелы опустились бы с неба и говорили о том же, они бы все равно не поверили. Эти двое поставили на карту все, они попрали и человеческие, и божеские законы, чтобы заключить друг друга в объятия, чтобы смотреть друг другу в глаза. Достаточно было им проголодать несколько часов, чтобы они увидели, как они заблуждались. Самая обыденная потребность, на которую в другое время они посмотрели бы как на непрошенного пришельца, задумавшего оторвать их от высоких чувств, с которыми они тянулись друг к другу, не только порвала эту связь навеки, но еще до того, как она порвалась, сделала отношения их источником муки и вражды, какие даже невозможно себе представить, разве что среди людоедов. Самые заклятые враги на земле и те, должно быть, не могли смотреть друг на друга с большим отвращением, чем _эти любовники_. Несчастные, как вы обманулись друг в друге! Вы кичились тем, что у вас есть сердце, а я кичусь тем, что у меня его нет, - жизнь покажет, кто из нас будет смеяться последним.
Рассказ мой подходит к концу, да и день, я надеюсь, тоже. Когда я находился в этих стенах последний раз, здесь было нечто такое, что меня привлекало. Как жалки сейчас все слова в сравнении с тем, что я видел здесь собственными глазами! На _шестой_ день все стихло. Дверь расколотили, мы вошли - они были мертвы. Они лежали далеко друг от друга и совсем не так, как на ложе сладострастия, в которое они столь самозабвенно превратили жесткую монастырскую постель. Она вся съежилась, забив себе в рот длинную прядь волос. На плече у нее была видна небольшая царапина: исступленный голод остановился на этом. Он вытянулся во весь рост, одна рука у него была зажата губами, словно у него не хватило сил совершить задуманное. Тела их были вынесены для погребения. Когда мы их вытаскивали на свет, длинные волосы раскинулись по лицу женщины, которую монашеская одежда еще так недавно делала похожей на юношу; лицо это показалось мне знакомым. Я вгляделся в него пристальнее - это была моя родная сестра, моя единственная сестра, значит, это ее голос я слышал там. Это он становился все слабее и слабее... Я слышал...