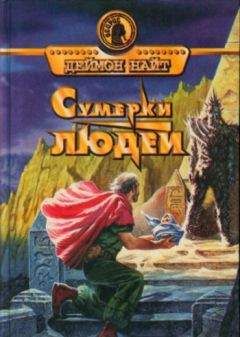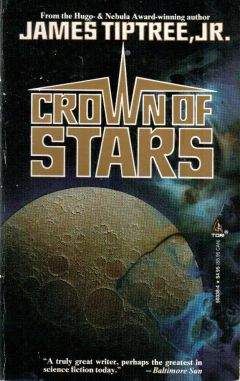— Нет, я говорил о нашем. Вот что я вам скажу ... Мы, немцы, очень любим драться на дуэли. Особенно пруссаки у каждого есть шрам ... Вот, смотрите, — и он показывает мне рубец возле уха. — Ну так вот, у нас есть поговорка: не дерись на дуэли с тем, кто не знает правил, это опасно ... Могу вам сказать, господин офицер, что, если бы вы умели воевать, я не был бы сейчас здесь и не держался бы руками за свои кишки.
На минуту мне кажется, что он видит в нашей неумелости превосходство.
— Вы считаете, что мы выиграем войну благодаря нашей неопытности?
— Выиграете войну? Сказать по чести, я не уверен, что через несколько часов люди из триста тридцать седьмого не будут здесь, где мы с вами разговариваем. Я знаю, что умру, иначе был бы уверен, что через две недели меня освободят наши в Бухаресте.
И я понимаю, что он не шутит.
— Но что вы все же хотели сказать?
— Вот что, господин офицер ... у войны тоже есть свои законы ... как и у дуэли. На Западном фронте нам случалось не стрелять целыми часами, даже если англичане в это время играли в бридж на поляне ... Как, по-вашему, можно выжить? Потом, есть еще одно правило ... Если вы стоите, а противник идет в атаку, ваша артиллерия начинает стрелять ... Тогда противник останавливается, и его артиллерия начинает стрелять сильнее нашей ... Тогда вы уходите с позиции и даете им прийти и занять ее ... Потом стреляет ваша артиллерия, и он обязан уйти, оставив убитых и раненых, как положено. Потом, если он хочет, он приходит снова, если нет — то нет ... В случае необходимости все снова происходит, как сказано выше. Через заградительный огонь проходить не положено, господин офицер.
— Да, но вы ведь сами сказали, что его нельзя сравнить с артогнем под Верденом и на Сомме.
— Ну и что же? ... Там мы сидели в бетонированных убежищах, глубоко под землей.
— Хорошо, но когда вы шли в атаку, поверху, на земле? ..
— Хм ... Тогда мы убегали, оставляя половину убитыми, а главнокомандующий сменял командира артиллерии, который не сумел подготовить атаку.
— Значит, то, что мы прошли сквозь заградительный огонь, кажется вам актом мужества?
У него на губах откровенная ироническая улыбка.
— Неужели вы и в самом деле думаете всерьез, что вы, румыны, храбрее нас или французов?
Сейчас, когда печатается эта книга, стоит добавить более позднее, но значительно более авторитетное мнение по этому поводу. «Считать, что врага нельзя победить иначе как прямой, доведенной до конца атакой, — это поистине рудиментарная стратегия. Для этого не нужно много ума». И дальше: «Немцы подготовили материальную часть значительно лучше, чем мы. Они изучили роль тяжелой артиллерии, существенно расширили использование траншей. А мы считали, что довольно боевого духа. Поэтому у нас на устах были лишь слова: «наступление», «вперед», «порыв» — у всех, от солдатов до генералиссимуса. Конечно, очень хорошо, когда такое чувство внушено солдату, но планы генералиссимуса должны опираться на нечто другое. Атаки, когда люди ломятся вперед всей толпой, не дали и не могли дать серьезных результатов.
Почему мы не смогли ничего сделать? Потому что у нас не было технической базы. Заметьте кстати, что и немцы допустили такие же ошибки, точно такие же, на Изере. Они бросили в котел битвы интеллигенцию, отпрысков избранных семейств, молодежь Берлина — все они были принесены в жертву. Нужно было добиться результата любой ценой. Но все эти гекатомбы ничему не послужили». (Мемуары Фоша, с. 116 — 118.)
Однако румынская кампания проходила почти через два года после битвы на Изере. (Примеч. автора.)
— Тогда в чем же дело?
Он молчит, долго прислушиваясь к боли в себе, словно к затаенной мысли. Потом, немного поморщившись:
— Тогда, значит, вы всеми силами помогаете германской армии как можно скорее добраться до Бухареста...
— Зачем вам нужно было сегодня проходить сквозь заградительный огонь? Чтобы спасти тех, кто был впереди вас, которых мы атаковали? Но они бы все равно погибли. Мы уже пошли на приступ ... Если бы вы помешали нам дойти до них, мы бы отступили, но передали бы их артиллерии, пусть бы она их утихомирила. Тогда зачем вам было ломиться вперед всей толпой? Вы нарушили правило войны. а наши отступили не из трусости — я думаю, вам известно, что немцы не трусы, — а опять-таки из расчета. Правда, нас обстреляли с фланга ... и из-за этой неожиданности нас, раненых, не смогли подобрать ... Но каковы ваши потери? Прибавьте к этому, что из оставшихся по ту сторону v заградительного огня вернутся очень немногие.
— Наши командиры высоко ставят штыковую атаку.
— Вот поэтому наши и дойдут до Бухареста так скоро ... Они не видят в штыковых сражениях никакого смысла. И все время будут поступать с вами так, как поступили сегодня, холодно и расчетливо.
— Вы знаете, у римлян Гораций притворился, что бежит, чтобы заставить Куриациев рассыпаться по полю ... Наши симулируют отступление перед вашими батальонами именно для того, чтобы вы вышли на пространство, простреливаемое артиллерией. А вам кажется, что вы побеждаете.
— Иногда и мы ошибаемся ... Я ведь привел вам нашу поговорку: не следует драться на дуэли с тем, кто не знает правил. Но в конце концов наши расчеты все же оправдываются. А скажите, в Карпатах у вас есть укрепленные траншеи?
Я, разумеется, поспешно вру.
— Ну, в Карпатах — другое дело. У нас там заранее выкопанные траншеи, готовые...
— И хорошие убежища?
— Да, землянки в два наката и с метровым слоем земли.
— И все? От наших семидесятипятимиллиметровых еще сойдет ... но против стопятимиллиметровых не устоит ... Я уж не говорю о стопятидесятимиллиметровых ... И потом, даже если и устоит, это все напрасно, если у вас тоже нет стопятидесятимиллиметровой или более тяжелой артиллерии.
— Конечно, мы будем стрелять, пока не разобьем траншеи и землянки, со всем живым, что в них укрылось ... Если землянки все же устоят, как на Сомме, мы не дадим времени выйти тем, кто в них скрывается. И тогда, если у вас такая же артиллерия, как у французов, вы поступите так же, как они: будете стрелять в оккупантов ... Оккупанты уйдут, а потом снова будут стрелять из пушек, так «da capo al fine[43]» как вы читали все лето про высоту Мортомм.
Я усмехаюсь, со смертельной горечью в душе ... Наши укрепления в Карпатах? Убежища и землянки ... все они, вместе взятые, не смогут устоять даже против рыла цыганской свиньи...
— Будем надеяться, господин офицер, что ваши врачи опытнее ваших генералов ... Но боюсь, что для меня это уже не имеет значения ... Пожалуй, мне хотелось бы иметь фотографию этих мест ... открытку ... чтобы дома жена и дети увидели, как выглядят те места, где я был убит ... Для семейного альбома.
Потом мы долго молчим ... Я думаю о всеобщей гибели, он только о своей. Эти сумерки после дождливого дня или, вернее, распогодившегося: ясного, осеннего — были мрачными и гнетущими, как похороны ... Дубовый лес и мелкий кустарник таяли в темноте.
В санитарный автомобиль я авторитетно приказываю взять и немца-пленного. И даже прошу шофера ехать медленнее по размытой дороге. Но он объясняет мне, что получил приказ к полуночи перевезти всех раненых.
Мне делают укол от столбняка и кладут в чистую постель. Поздно ночью прибывает другая группа раненых из нашего полка. Дивизия отступает. Наш батальон наполовину перебит. Четыре убитых офицера, несколько раненых, моя рота окружена и взята в плен со всеми офицерами. Тудор Попеску, где-то ты теперь? К утру госпиталь будет эвакуирован. Санитары спешно перевязывают раны.
13. Апокрифическое коммюнике
Поездка в санитарном поезде, в который погрузили нас всех — человек двести раненых, — показалась мне чем-то вроде путешествия по чужой стране, когда по вокзальному ресторану судишь и о городе, когда тот или иной перегон вырывается из своего ряда (поле, одиночество, дождь, бедность) и становится элементом другого, мелькнувшего ряда (вагон-ресторан, пейзаж, элегантная дама, путешествующий господин). Я возвращался в мир, который уже не был для меня прежним, так иным кажется город больному, впервые выходящему из дома после многомесячного пребывания в комнате. И я выискивал и объединял детали окружающего мира, обобщал их. Из-за вокзала в Брашове, украшенного листьями и национальными флагами, этот незнакомый город остался у меня в памяти открыткой или декорацией по случаю 10 мая[44]. Под вечер, в Синайе, в наш вагон хлынули красивые барыни, с руками такими же белыми и нежными, как голландское полотно их халатов. Зато все остальные выглядят, как призраки, отгораживающиеся даже голосом и взглядом от всего, что лежит вне их, — своеобразная сиеста после безумного напряжения боевых будней. Между Предялом и Буштень я увидел возле путевых будок волчьи норы и игрушечные окопы, вырытые прямо у шоссе — как будто ни гор, ни лесов там и в помине не было, — с той наивностью, с которой легкомысленные городские власти, стремясь избегнуть катастрофического наводнения, угрожающего всему краю, вырывают вдоль дорог сточные канавки. Но бурный поток, разливаясь, уносит с собой не только все, что встречает на дороге, но и высокие дома и даже здание городской управы с самим господином примарем.