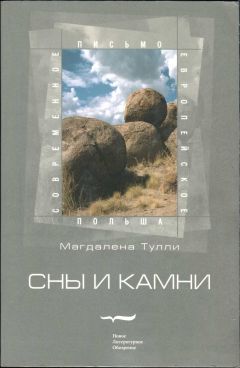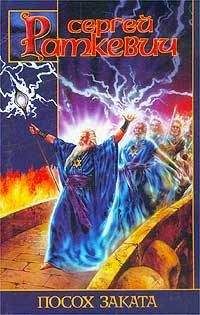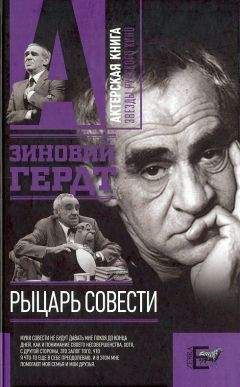Более поздние эскизы противоречили предшествующим. Очередные проекты обрастали все новыми особыми требованиями и ограничениями. Самые последние рисовались во множестве вариантов, взаимоисключающих и ущербных. Девятиэтажный дом нарушал перспективу улицы и загораживал дворец, но выстроенный на этом месте приземистый торговый центр моментально облепляли кособокие лавчонки, вносившие дух несубординации, хаоса, склоки. Подземный гараж, выплевывавший по несколько десятков автомобилей в минуту, не мог соседствовать со школой, закрыть которую, однако, было нельзя, чтоб не оставлять без присмотра местную детвору, имевшую обыкновение поджигать помойки и швырять камни в окна. Ни один из проектов не был безупречен, но каждый обладал определенными достоинствами, поэтому простиравшемуся на чертежах хромому целому — чтобы не опрокинуться — требовались все они разом. Его пространство обретало, таким образом, непостижимую глубину. И трех измерений порой много, что уж говорить о пятнадцати. Достаточно упомянуть, что парк, виадук и торговый центр могли занимать в пространстве одну и ту же точку, ничуть не мешая друг другу, а их аллейки, эскалаторы и полосы мостовой пересекались, никогда не вступая в спор.
Все происходившее на чертежных столах сложным образом сопрягалось с переменами в городе из кирпичей, где тем временем появлялись очередные мосты, очередные памятники, очередные часы с курантами. Но из-за множества взаимопроникающих пространств и нагромождения вариантов ни одно из этих творений уже не достигало размаха прежних предприятий эпохи молодости мира. Интерьеры сделались тесноваты, на граните и песчанике экономили, фасады не украшали более барельефами, которые незаметно вышли из моды. Следует также отметить, что новые куранты чуть фальшивили, а голос их с трудом пробивался через уличный шум.
Все отчетливее проступали дополнительные, незапланированные города, которые возникли неведомо когда и неведомо как и которые потаенным своим существованием разрушали целое. Постовой обитает в городе, возведенном из табличек с автомобильными номерами, к которым прилагаются кузова, шасси, моторы, поворотники. Для телефонистки опутанная кабелями метрополия телефонных аппаратов вырастает — точно из скрытого корневища — из центрального городского узла. Город пьяницы пуст и сплошь состоит из колышущихся полос света и острых углов, свободно парящих в пространстве. Иначе выглядит город покойника, не отапливаемый, сырой и темный, где не допросишься даже чашки горячего чая и где жить попросту невозможно, особенно в пять утра, самую зябкую пору.
Эти сообщающиеся пространства делают город все более разнородным, хаотичным, сумбурным. Ему приходится быть одновременно темным и светлым, многолюдным и пустынным, шумным и безмолвным. А также, пора наконец в этом признаться, — многозначным и ничего не значащим. Его именем, в зависимости от ситуации, могут быть автомобильные номера, телефонные аппараты, колышущиеся полосы света или что-нибудь еще, образующее в глазах узор под названием «город» и заслоняющее стены, подобно тому как простершиеся между глазом и источником света дивные, феерические витражи калейдоскопа подменяют небо и землю.
Вот таким образом город затуманился, утратил четкие контуры и сделался отчасти незрим. Но даже не видя города, жители достаточно отчетливо ощущали его присутствие. Шероховатость его фасадов, глубину его подъездов, выкрашенных масляной краской грязноватых оттенков, нерешительность его лифтов, похожих на шкафы, подвешенные на стальных тросах в безднах шахт, исцарапанные стены, заплеванные полы и битые бутылки по углам. Уж лучше было не глядеть на никогда не мывшиеся окна фабричных цехов и станки, несовершенство которых бросалось в глаза, даже когда те бездействовали. Их обшивка, покрытая облупившейся краской, грубая и тяжелая, носила печать примитивных литейных форм, эти станки породивших. Несмотря на нехитрый принцип литейного производства, каждая вторая отливка оказывалась бракованной. Угля не жалели: жгли сколько нужно, чтобы вновь превратить чугунные черепки в раскаленное докрасна сырье. Никто не рассчитывал получить литье более изящное. Каждая деталь выдавала явное родство с молотом и французским гаечным ключом, трещины свидетельствовали о дефиците точности, тяготевшем над этими инструментами, слепая сила которых была способна сломить сопротивление винтов толщиной в палец, ржавых и приварившихся к гайкам.
В открытую щекотливого вопроса, связанного с техникой, жители города предпочитали не касаться. Им было известно, что создавалась она в преклонении перед совершенством и тоске по нему, в надежде поразить человечество, и что материя, служившая сырьем, всякий раз оказывалась тяжелее и непослушнее той, из которой рождаются мысли. Дошлые и наглые операторы машин распознавали отнюдь не новые технические решения и сравнивали качество с мифическим первоисточником. В этом городе копиям никогда не удавалось сравняться с прототипами, марки которых назывались возбужденным шепотом, как решающий аргумент в споре. Чем красивее звучало имя, тем больше презрения вызывало реальное оборудование местного производства, единственное, которое удавалось подключить и запустить. Пока оборудование было новым — ждали, чтобы детали притерлись. Они и притерлись — по ходу дела, в процессе бесконечных аварий. Заедало передачи, ломались винты, гайки застревали в шестеренках. Механизм этого города работал вяло, сопровождаемый стуком, свидетельствующим об износе деталей, громыханием, скрежетом. Каждая вещь здесь обладала своими недостатками, составлявшими часть ее природы, быть может, важнейшую, которой лишь требовалось время, чтобы проявиться. Поэтому трубы забивались, резервуары протекали. Чем более тонкой была конструкция, тем скорее она начинала заедать, рассыпаться и ржаветь.
На каком-то этапе множество темных звезд появилось на небе звезд неизменных, подвешенном выше неба туч, но ниже неба солнц и лун. Якобы это были самые обычные звезды, отличавшиеся от прочих только тем, что по какой-то причине погасли. А перестав светить, сделались невидимы. Их разбивали рейсовые вертолеты, плутавшие под небесным сводом без топлива, которым не могли заправиться, поскольку негде было приземлиться: вертодромы на крышах так и не сделали, и теперь там разрастались густые джунгли антенн.
Сверкающая и хрупкая материя, из которой были сделаны звезды, теряла от ударов прозрачность и просыпалась на город черной пылью. От нее чернела штукатурка. Со временем здания приобрели тот же оттенок серого, что и небо над городом, — и в результате исчезли. По мере обострения проблемы электроснабжения гасли очередные звезды и скапливалось все больше черной пыли, которая тенью ложилась на небо и землю, приглушая все источники света, не исключая солнца. Глаза прохожих скользили по верхушкам фронтонов, сливавшихся с тучами. Никого уже не радовали чудеса этого города. Каменные каменщики в каменных одеждах, одинокие в своих нишах, стояли на тяжелых каменных ногах, тщетно поднимая кирки. С нахохлившимися от холода голубями на голове, застыли они — неприметные — во мраке улицы. Дома, тучи и земля были покрыты одной краской, и даже птицы на этом фоне терялись. Проще было их разглядеть в альбомах с почтовыми марками, где они хотя бы не мерзли.
Никто не знает, откуда в городе берется печаль. Она не имеет фундаментов, не выстроена из кирпичей и не свинчена из нарезных труб, не течет по электропроводам и не доставляется товарными поездами. Печаль стелется меж домов, точно легкий туман, который ветер неравномерно разносит по площадям, улицам и дворам. Есть улицы длинные и короткие, узкие и широкие, одни — серые с примесью охры, другие — голубоватые от тротуаров до черепицы. У каждой из них свой оттенок печали. Те, которые она покрывает густым слоем, и те, на которые ложится едва заметной тенью, сходятся, пересекаются и разбегаются. От их длины, ширины и углов пересечения зависит циркуляция печали. Ее количество и сорт меняются в городе ежедневно, подобно погоде. Возникнет где-нибудь крошечная точка радости, и зона радости начнет разрастаться, клиньями врезаясь в охваченные печалью улицы, а ее головная часть, словно атмосферный фронт, поплывет над крышами домов. Есть улицы с расшатанными тротуарными плитками и неизбывным запахом капусты со шкварками — по субботам тут на каждом углу слышны шум и музыка. В понедельник наступает мрачная тишина, изредка прерываемая хлопаньем двери и хриплыми голосами.
С определенной точки зрения можно было считать печаль одной из форм энтузиазма, изначально вписанного в урбанистические решения, но — как и все на свете — оказавшегося недостаточно прочным и рано или поздно обреченного превратиться в свою противоположность. Печаль была тем, во что обращается энтузиазм, миновав пик эксплозии, за которым неминуемо наступает имплозия.