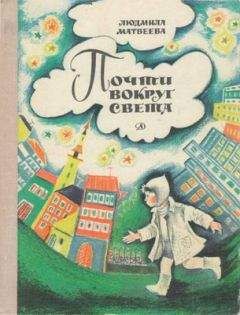— В такой же мере, как и я. Умер условно.
— Не понимаю! — опять воскликнул Федор Филатович.
Это было страданием — восклицать и не слышать своего голоса. Но странный гость, видимо, слышал.
— А понимать и не надо, — сказал он, еще выше задрав бровь. — Ну, до свидания, мне пора. Самолет встает на рассвете.
— Постойте, постойте, не уходите. А ваша мать, Клавдия Ивановна? Она-то жива?
Гость не ответил и стал уходить. Не уходить, а исчезать по частям, как будто его стирали с доски тряпкой. Раньше всего стерли лоб со взлизами, за ним — крючковатые брови, кошачьи виски. Стерли лицо — осталась рубашка. Но и она превратилась в обыкновенное полотенце.
«Галлюцинация», — подумал Федор Филатович, и ему стало страшно. Он заворочался, застонал. Из соседней комнаты появилась Даша. Она всегда чутко слушала: спит ли? Он не спал. Смотрел на нее злыми глазами.
— Феденька, что тебе? Утку?
Он мычал и встряхивал головой. Он кричал глазами, что ему нужно. Ему нужно было вспомнить, как звали второго сына, младшего. Надо же ухитриться забыть!
Павел? Нет, не Павел. Как же его, в конце концов, звали?
Даша поправила ему одеяло, поцеловала в лоб и ушла, шлепая стоптанными задниками. Он гневно смотрел ей вслед. Ничего, обойдусь.
Младший сын родился вскоре после войны. Жили тогда с Клавдией благополучно. Плавания были недолгими. Возвращался, нагруженный подарками. Помогал Клавдии купать маленького.
Цинковая ванночка звездами. Скользкое от мыла младенческое тело. Вынимал мальчика, держал на весу, а Клавдия окатывала прохладной водой из кувшина. Кувшин голубой, с розами, тоже заграничный. Все помню, а как звали ребенка — забыл.
Послевоенная жизнь была еще трудна. А он приезжал совсем из другого мира: синее море, яркое солнце. Пестрые базары тропических стран. Команда парохода — вся в белом.
Дома, в Ленинграде, никто не ходил в белом, даже женщины. Мудрено ли, что, окунувшись на время в здешние трудности, он опять рвался обратно, в море?
Эти несколько дней побывки... Клавдия, ждавшая его терпеливо, всем сердцем, не знала чем и побаловать любимого. Отказывала себе во всем. Не только себе — и детям. А он был сыт. Избалован корабельной едой. Кормили их прекрасно. Фрукты — в изобилии.
Смешной случай — как-то в тропиках купил он для камбуза мешок картошки. Оказалось — там апельсины... Обманули!
Домашняя еда его не соблазняла. Однажды подала ему Клавдия что-то особенно лакомое, а он не доел, оставил на тарелке. После увидел в зеркале, как она, крадучись, ела оставленное... Мысль о том, что Клавдия недоедает, царапала душу, но он утешал себя, что скоро все наладится. Ведь жизнь с каждым годом становилась лучше...
Все-таки он ей помогал. Взял, например, с собой в плавание кота. Чтобы ей было полегче. Прокормить кота было проблемой.
Кота звали Шах. Красавец, редкостной масти: темный, но не черный, лиловато-коричневый, с бежевыми подмышками, явно ангорских кровей. Не хвост — опахало. Из-под кровати — почти на полкомнаты. Царский хвост.
Кот был капризный, причудливый. Не ел ничего, кроме сырой рыбы. А ее достать было негде. По карточкам давали, но редко. Коту наплевать было на карточки, он орал: рыбы, рыбы! Измучилась с ним Клавдия. Сперва надеялась, что Шах, проголодавшись, начнет есть другое. Не тут-то было! Кот оказался стоиком. Приходилось покупать рыбу на рынке по безумной цене.
Федор взял Шаха с собой в плавание. Кот сначала хандрил, страдал морской болезнью, даже не во время качки, а в предчувствии. «Федькин кот травит — быть шторму!» — говорили товарищи. Потом пообвык, обжился, стал любимцем команды и кока, баловавшего его рыбкой...
Разборчив в еде, разборчив в привязанностях. Хозяина своего не любил. Был суров. Широкое в висках, суженное книзу лицо напоминало Клавдино. Загадочный желтый взгляд с вертикальной щелью зрачка... Кот словно шпионил за хозяином — так ли себя ведет?
А он вел себя как обычно. Была у него на пароходе буфетчица Нюра — милая женщина лет тридцати. Шах — агент Клавдии — невзлюбил Нюру. «Боюсь я твоего зверюгу», — говорила она. И не зря. Однажды, когда они мирно забавлялись в каюте, откуда-то сверху бросилось на них черное тело с растопыренными когтями. Исцарапал, искусал котище их обоих.
После того в одном из портов продал Федор кота-шпиона французскому матросу с помпоном на шапке, соблазненному редкостной мастью. И взял-то всего ничего. Вернувшись в Ленинград, соврал Клавдии, что кот сбежал сам, пленившись роскошной жизнью за рубежом.
А Нюра после происшествия в каюту к нему больше не заходила. «Кончен бал, погасли свечи», — сказала.
Ну что за ерунда помнится? Какая-то Нюра, какой-то Шах...
Лежать было мучительно. Выйти, выйти, выйти из своего тела! Оставить его лежать, а самому выйти.
Физической боли не было. Все тело — как будто под местным наркозом. Но лучше бы уж она была. Боль — это жизнь.
Тоска — это не боль. Это хуже боли.
Он спасался от тоски, уходя в детство. Но и оно было на исходе — вот-вот кончится. Кончилось, в сущности, когда переехали в Петербург.
Почему переехали? Он этого толком не знал. Какие-то неприятности с папой. Отрывки разговоров: папа был «красным», его выследили...
Папа — красный? Странно. Красным-то он его никогда не видел. Скорее жемчужно-желтым, под стать его редеющей шевелюре. «Красный». «Выследили». Вроде страшной сказки.
Причиной были какие-то «опасные связи», как, смеясь, пояснял папа. «Опасными связями» были, наверно, чужие дяди, эстонцы и латыши, приходившие ночевать. Мама сама стелила им постели, взбивала подушки, любовно похлопывая каждую по животу маленькой, но сильной ладонью.
Все это он подслушал в разговорах старших. Начал, значит, уже подслушивать. Из тех же разговоров узнал, что папин с мамой знакомый, Лев Львович (Федя с Варей его звали «дядя Лилович»), обещал в столице какую-то «протекцию».
Собрались, уехали. Дорога совсем выпала из памяти.
Первое впечатление от Петербурга — серость. Все было серым: и дома, и небо, и мостовые. Шел дождь, вещи мокли на перроне, Федя с Варей жались к маме под зонтик. Со спиц текла вода. Это, верно, и была «протекция»...
Новая, необжитая квартира, где так неуютно вещам. Жмутся друг к другу, холодно им. Окна — на улицу, низко, почти на уровне тротуара. Блестит мокрый булыжник. Ломовики, телеги, скрип колес, цоканье подков. «Но!» — крик возницы. Он бородат, неприветлив.
На углу вывеска: «Ф.М. Уваров. Дамский портной». Тускло-золотой крендель: «Булочная и кондитерская». Из водосточных труб хлестала вода. Мокрые голуби хохлились...
Не полюбился ему Петербург. Сразу — тоска по родине, по башням, каштанам, церковным шпилям. Здесь и церкви были другие — круглоголовые. И звонили-то они не так. Там — мерно, однозвучно, торжественно, все на одной ноте: дон-дон-дон. Здесь — суетливо, на разные голоса: дили-дон-дон-дон, дили-дили-дон. Мама объяснила ему, что это называется «благовест». Не понравился ему этот благовест.
Вспоминая родное, покинутое, рисовал привычные пейзажи: желтые с черной крышей, зеленые с красной дома, — хотя здесь все было замуровано в серый камень. Рисовал море с цветными парусами, толстые башни, стройные шпили... Как будто нарисованное могло вернуть все то, что любил.
Новые впечатления. Вместо привычной эстонки Зальме — кухарка Матреша, толстая, красная, лицо, как раковая шейка. Зевала, крестила рот, говорила: «Господи-батюшка, помилуй, отец, по грехам нашим». Любила петь песни. Одна — всем известная «Маруся отравилась». Другая — он ее ни от кого больше не слышал, кроме Матреши. Мотив с завитушками, а слова такие: «Любила я, страдала я, а он-а-подлец-а-забыл меня». «Подлецом», видимо, был друг Матреши китаец Ходя. Длинная коса, мягкие туфли на высокой войлочной подошве, доброе, но загадочно-раскосое лицо. Ходя торговал с лотка вырезными игрушками из папиросной бумаги. Яркие — ядовито-розовые, голубые, лиловые, аккуратно сложенные гармошкой. Развернешь гармошку — и сразу шар! Интересно. А еще интереснее были зернышки, с виду невзрачные, беловатые, как лимонные семечки. Их надо было размочить в теплой воде, тогда они разбухали, становились слониками, обезьянками, человечками. Когда Ходя являлся в дом, — к Матреше в ее комнатку при кухне, — у детей, Феди с Варей, был праздник: каждый раз что-нибудь им перепадало. Ходя говорил: «Бели, далю» (бери, дарю). Кажется, это были единственные русские слова, которые он знал. Добрый! Однажды Федя прямо спросил его: «А почему вы подлец?» Китаец не понял и мелко-мелко закивал головой, как игрушечный. Были тогда в обиходе игрушки: фарфоровые китайцы. Голова, вставленная шеей в круглую дырку, не закреплена, качается. Ставился такой китаец на комод или шкаф и кивал-кивал... Точь-в-точь Ходя.
Ходя не говорил по-русски, а Матреша, естественно, по-китайски, но как-то они договаривались. Наверно, любили друг друга, хотя он, подлец, и забывал ее и часто подолгу не приходил. Тогда Матреша распухала от слез и вся исходила пением.