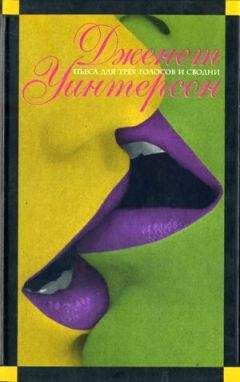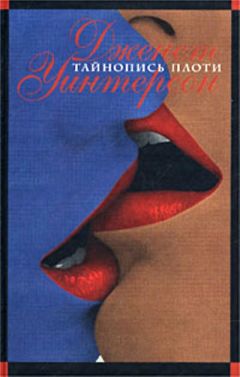Мать. Отец. Я люблю вас.
Много вечеров мы просидели допоздна: пили самодельный коньяк Клода, пока пламя не приобретало цвет увядших роз. Мать весело рассказывала о своем прошлом; казалось, верила, что с воцарением правителя многое пойдет по-прежнему. Даже подумывала написать родителям. Мать знала, что они будут праздновать возвращение монарха. Я удивился: мне казалось, она всегда поддерживала Бурбонов. Неужели одного титула Императора достаточно, чтобы искренне полюбить человека, которого она ненавидела?
- Анри, он поступает правильно. Стране нужны король и королева. Иначе на кого же нам равняться?
- На Бонапарта и так можно равняться, король он или не король.
Но так она не могла. А Бонапарт знал, что она не может. Он сел на трон не из простого тщеславия.
Говоря о родителях, мать питала те же надежды, что и странник на пути к дому. Думала, они не изменились, за двадцать с лишним лет вся мебель осталась целой и не сдвинулась с места. Отцовская борода сохранила свой цвет. Я понимал ее надежды. Мы все в чем-то рассчитывали на Бонапарта.
Время - великий умертвитель. Люди забывают, стареют, им становится скучно. Когда-то мать рискнула жизнью, сбежав от родителей, а теперь говорит о них с любовью. Неужели забыла? Неужели время смягчило ее гнев?
Она смотрела на меня.
- Анри, с годами я не стала жадной. Я брала то, что мне давали, и не спрашивала, откуда оно взялось. Мне нравится думать о них. Хочется любить их. Вот и все.
У меня вспыхнули щеки. По какому праву я осуждаю ее? Лишаю радости и заставляю чувствовать глупой и сентиментальной? Я встал перед нею на колени спиной к огню и прижался грудью к ее ногам. Мать продолжала штопать.
- Ты такой же, какой была я, - сказала она. - Нетерпеливый и слабосердый.
Дождь шел несколько дней. Та морось, что за полчаса промочит так, что ливню делать уже нечего. Я ходил по друзьям из дома в дом, мы болтали, а заодно я помогал им делать уборку и что-то ремонтировать по мелочи. Мой друг кюре отправился в паломничество, поэтому я оставил ему несколько длинных писем - именно таких, которые любил получать сам.
Я люблю раннюю темноту. Это еще не ночь. Она дружелюбна. Никто не боится выходить на улицу без фонаря. Девушки поют, возвращаясь с последней дойки. Если я выскочу из-за угла, они вскрикнут и погонятся за мной, но сердца у них не заколотятся. Трудно сказать, чем один вид темноты отличается от другого. Настоящая темнота плотнее и тише; она заползает между мундиром и сердцем. Лезет в глаза. Когда мне нужно выйти в ночь, я боюсь не зуботычин или ножей, хотя за стенами и оградами можно найти и то другое. Я боюсь Темноты. Идешь и весело насвистываешь - но попробуй простоять на месте хотя бы пять минут. Постой в Темноте посреди поля или на тропинке, тогда поймешь, что здесь тебя всего лишь терпят. Темнота заставит тебя умерить прыть. Стоит сделать шаг, и Темнота сомкнется за твоей спиной. А впереди тебе нет места, если ты его не завоюешь. Темнота абсолютна. Идти в Темноте - все равно что плыть под водой; разница лишь в том, что не можешь вынырнуть и сделать вдох.
Когда ночью лежишь без сна, Темнота мягка на ощупь и чуть душновата, как кротовья шкурка. В деревне полагаются на луну, но когда луны нет, в окне не видно ни зги. Окно затянуто стеной, залито идеально черной поверхностью. Не та ли чернота стоит перед глазами слепого? Я всегда думал, что да, но меня разубедили. Слепой разносчик, постоянно навещавший нас, смеялся над моими россказнями о Темноте и говорил, что Темнота - его жена. Мы покупали у разносчика кадушки и кормили его на кухне. В отличие от меня, он никогда не разбрызгивал похлебку и не проносил ложку мимо рта.
- Я вижу, - говорил он, - но не глазами.
Мать сказала, что прошлой зимой он умер.
Стоит ранний вечер - последний вечер моего отпуска. Но мы не будем устраивать ничего особенного. Мы не хотим думать, что я снова ухожу из дома.
Я пообещал матери, что вскоре после коронации вызову ее в Париж. Я сам никогда там не был, и мысль об этом облегчает мне прощание. Домино туда тоже приедет - ходить за своей чокнутой лошадью, учить это чудовище вышагивать в ногу с придворными конями. Непонятно, зачем Бонапарту в столь ответственный момент понадобилась именно эта тварь, солдатский конь - не создание для парадов. Но он всегда напоминает нам, что тоже солдат.
Наконец Клод отправился спать. Мы с матерью остались одни, но не говорили ни слова. Просто держались за руки, пока фитиль не догорел и не наступила темнота.
Париж никогда не видел столько денег.
Бонапарты скупали все - от сливок до живописи Давида. Давиду, который польстил Наполеону, сказав, что у него голова настоящего римлянина, заказали писать коронацию, и он был вынужден каждый день являться в Нотр-Дам, делать эскизы и браниться с ремесленниками, которые пытались устранить ущерб, нанесенный революцией и банкротством. Жозефина, отвечавшая за цветы, не удовольствовалась вазами и букетами. Она чертила план маршрута от дворца до собора и была увлечена этим эфемерным занятием не меньше, чем Давид - своим. Я впервые увидел ее, когда она играла в бильярд с мсье Талейраном, господином достойным, но с шарами - бездарным. Если бы ее платье можно было расправить, шлейф протянулся бы ковровой дорожкой до самого собора, но Жозефина нагибалась и двигалась так, словно на ней ничего не было, и чертила кием идеальные параллельные линии. Бонапарт нарядил меня лакеем и приказал отнести ее величеству полдник. В четыре часа она любила лакомиться дыней. Мсье Талейрану подали портвейн.
Праздничное настроение, владевшее Наполеоном, превратилось чуть ли не в манию. Два дня назад он явился на обед, нарядившись папой римским, и похотливо спросил Жозефину, не хотела бы она переспать с Господом. Я не сводил взгляда с курятины.
Сегодня он велел мне снять солдатский мундир и надеть придворное платье. Невероятно узкое. Это его рассмешило. Он любил посмеяться - единственное успокоение, кроме все более горячих ванн, которые он принимал и днем, и ночью. Дворцовые банщики так же не знали покоя, как и повара. Он мог в любое время потребовать горячей воды, и если ванна оказывалась неполной, дежурному банщику доставалось по первое число. Я видел ванную только однажды. Посреди огромного помещения стояла ванна величиной с линейный корабль. В углу топилась печь, вода в трубах нагревалась, сливалась, снова нагревалась - пока не подходило время купания. Служители были специально отобраны из лучших силачей Франции, которые могли завалить быка. Эти парни в одиночку таскали огромные медные котлы, как чайные чашки; голые по пояс, они носили матросские штаны, пропитанные по.том, стекавшим по ногам темными ручьями. Как и матросам, им полагалась ежедневная порция спиртного, но я не знал, что именно они пьют. Однажды я просунул голову в дверь, вдохнул пар и увидел гиганта, похожего на джинна, - Андре. Он предложил мне глотнуть из его фляжки. Я из вежливости согласился, но тут же выплюнул бурую жидкость на кафель, совершенно ошалев от жары. Гигант ущипнул меня за руку, как повар, проверяющий готовность спагетти, и сказал, что здесь чем жарче, тем крепче жидкость.
- А почему тогда на Мартинике пьют этот ром, как ты считаешь? - Он подмигнул и прошелся, подражая походке ее высочества. Теперь Жозефина стояла передо мной, но я стеснялся сказать, что дыня подана.
Талейран кашлянул.
- Я не промахнусь, сколько б вы ни хрюкали, - сказала она.
Он кашлянул снова. Жозефина подняла взгляд, увидела, что я стою навытяжку, отложила кий и шагнула ко мне забрать поднос.
- Я знаю всех слуг, но тебя раньше не видела.
- Я из Булони, ваш-величство. Прибыл подавать курятину.
Она засмеялась и смерила меня взглядом.
- Ты одет не как солдат.
- Нет, ваш-величство. Теперь я при дворе, значит, одеваюсь, как при дворе.
Она кивнула.
- Думаю, ты можешь одеваться, как тебе нравится. Я попрошу его оказать тебе такую милость. Не хочешь перейти в услужение ко мне? Дыня намного слаще курятины.
Я перепугался. Неужели после всего пережитого я должен был потерять его?
- Нет, ваш-величство. Я не умею с дыней. Только с курятиной. Меня научили.
(Я говорил, как уличный мальчишка).
Она задержала ладонь на моем предплечье и пристально посмотрела в глаза.
- Я вижу твое усердие. Можешь идти.
Я благодарно поклонился, попятился и бегом припустился в помещения для челяди, где у меня имелась собственная комнатка: такая привилегия полагалась только личным слугам. Там хранились несколько книг, флейта, на которой я мечтал научиться играть, и мой дневник. Я попытался написать о ней, но тщетно. Она ускользала от меня так же, как булонские шлюхи. Поэтому я решил написать не о ней, а о Наполеоне.
После этого я готовил банкет за банкетом для наших покоренных территорий, желавших поздравить будущего Императора. Гости набивали себе желудки изысканными рыбой и мясом с только что изобретенными соусами, но Наполеон по-прежнему съедал по курице каждый вечер и чаще всего забывал про овощи. Никто этого не замечал. Ему стоило кашлянуть, и за столом воцарялось молчание. Я снова и снова ловил на себе взгляд ее величества, но если наши глаза встречались, она слегка улыбалась, а я опускал голову. Смотреть на нее означало изменять ему. Она принадлежала ему. И я ей завидовал.