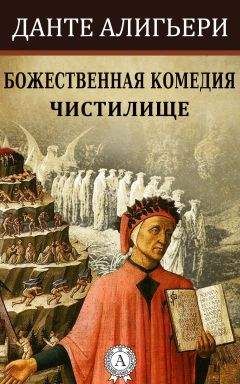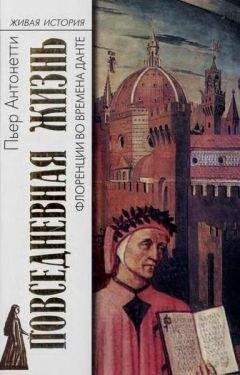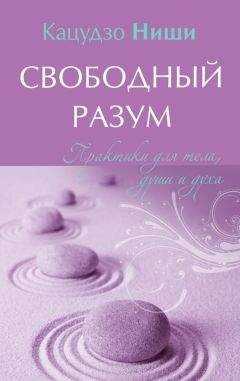Далее, его достоинства сделали меня ему другом. При этом надо помнить, что достоинство, присущее какой-либо вещи, вызывает к ней любовь: так мужчину красит обилие бороды, а женщину -- гладкость кожи; так достоинство легавой -- хорошее чутье, а борзой -- быстрый бег. И чем достоинство значительнее, тем больше оно вызывает любви; хотя каждая добродетель в человеке и вызывает к нему любовь, однако достойнее любви в нем та добродетель, которая наиболее человечна, а это и есть справедливость, которая заложена только в разумной, иначе говоря, в интеллектуальной части человека, то есть в его воле. Справедливость же настолько достойна любви, что, как говорит Философ в пятой книге "Этики"3, ее любят и враги ее, как-то воры и грабители4; поэтому мы видим, что ее противоположность, а именно несправедливость, как-то предательство, неблагодарность, ложь, воровство, грабеж, обман и им подобное, вызывает к себе величайшую ненависть. Это грехи настолько бесчеловечные, что подозреваемому в них человеку, дабы он мог себя оправдать, разрешается по древнему обычаю говорить о самом себе, как было сказано выше, и заявить о своей честности и правоте5. О справедливости я более подробно скажу ниже, в четырнадцатом трактате6, здесь же, ограничиваясь этим, возвращаюсь к своему предмету. Итак, доказано, что достоинство наиболее существенное для вещи более всего в ней и заслуживает любви; и, чтобы показать, какое именно достоинство для нее наиболее существенно, надо рассмотреть, какое более достойно любви и наиболее восхваляемо. Во всем, что касается речи, наиболее достойна любви и наиболее восхваляема способность сообщения мысли; в этом и заключается первая ее добродетель. А так как она присутствует в нашем народном языке, что было ясно показано выше, в другой главе, то очевидно, что достоинство это и явилось одной из причин любви, которую я питаю к народному языку; как уже говорилось, добродетель есть причина, порождающая любовь.
XIII. Сказав о том, что родное наречие обладает теми двумя свойствами, благодаря которым я стал ему другом, а именно близость мне и собственные его достоинства, я скажу о том, как дружба эта укрепилась и увеличилась по причине ее благотворности и общей устремленности, а также от другой привычки.
Прежде всего я утверждаю, что от этой дружбы я получил в дар величайшие благодеяния. Ведь надо помнить, что из всех благодеяний величайшее то, которое наиболее ценно получающему его, и что нет вещи более ценной, чем та, ради которой все остальные желанны; а все остальные желанны ради совершенствования того, кто желает. Человек имеет два совершенства, одно первичное и другое вторичное; первичное дарует ему бытие, вторичное же позволяет ему быть добрым, следовательно, если родная речь была для меня причиной и того и другого, я получил от нее величайшее благодеяние. А то, что он стал для меня причиной бытия, а к тому же и доброго, поскольку это было в моих силах, может быть вкратце показано1.
Согласно Философу [говорящему об этом во второй книге "Физики"]2, не исключается возможность того, чтобы нечто имело несколько причин, его порождающих, хотя бы одна из них была более действенной, чем остальные; так, огонь и молот суть причины, ведущие к возникновению ножа, хотя главная роль в его появлении принадлежит кузнецу. Тот же народный язык был посредником между моими родителями, которые на нем изъяснялись, подобно тому как огонь подготовляет железо для кузнеца, кующего нож; из чего с очевидностью следует, что родной язык был соучастником моего зачатия и, таким образом, одной из причин моего бытия. Далее, этот мой родной язык вывел меня на путь познания, которое и есть предельное совершенство, поскольку я с помощью этого языка приобщился латыни и смог постичь ее. Латынь же открыла предо мной впоследствии и дальнейшие пути. Таким образом, очевидно и мною самим испытано, что язык стал для меня величайшим благодетелем.
Далее, у меня было с ним общее устремление, и я могу показать это следующим образом. Каждая вещь от природы стремится к самосохранению; и, если бы народный язык был сам по себе способен к чему-либо стремиться, он и стремился бы к самосохранению, каковое заключалось бы в достижении большей [для себя] устойчивости, а большей устойчивости он мог бы достигнуть только связав себя размером и рифмами3. А это было и моим устремлением, настолько очевидным, что многих свидетельств и не требует. Таким образом, и у меня и у него было одно и то же устремление; а дружба подкрепляется и умножается этим согласием. Далее, было и взаимное расположение, вытекающее из привычки, ибо я с начала своей жизни пользовался его благосклонностью и общением с ним и применял его в пояснениях, толкованиях и вопросах. Поэтому если дружба умножается привычкой, то очевидно, что ее укреплением я обязан постоянному общению с народным языком. Итак, мы видим, что в этой дружбе участвовали все порождающие и умножающие причины всякой дружбы, из чего можно заключить, что я должен питать к нему и питаю не просто любовь, но любовь совершеннейшую.
Так, обратив свои взоры вспять и собрав воедино все приведенные выше доводы, можно увидеть, что хлеб, с которым надлежит вкушать приводимые ниже канцоны4, достаточно очищен от пятен и оправдан в том, что он из овса, а не из пшеницы. Настало время подавать само кушанье. Итак, это будет тот ячменный хлеб, которым насыщаются тысячи5; для меня же останутся полные коробы. Он будет новым светом, новым солнцем6, которое взойдет там, где зайдет привычное; и оно дарует свет тем, кто пребывает во мраке и во тьме, так как старое солнце им больше не светит.
ТРАКТАТ ВТОРОЙ
КАНЦОНА ПЕРВАЯ
Вы, движущие третьи небеса,
Их разумея, мне внемлите тайно.
Я слышу -- в сердце голос прозвучал,
Столь новый для других, необычайно.
Покорна вам небесная краса.
Я вашу власть и волю ощущал;
Ваш свет мне в сердце силу излучал.
Не скрою горести и упованья.
Высокий слух прошу я приклонить,
Чтоб мог испытанное вам открыть.
Души услышьте скорбные рыданья.
Вот в спор вступает дух астральный с ней
В сиянье ваших действенных огней.
В скорбящем сердце мысль одна жила
И, сладостная, к высям устремлялась;
Внимало сердце, радостью дыша,
Как дама в царстве света прославлялась.
Звучала сладостно о ней хвала.
"К ней устремлюсь",-- промолвила душа.
Но некий дух летел ко мне, спеша,
И эту мысль изгнал, овладевая
Всецело мной. Как трепет сердца скрыть?
Другую даму должен я хвалить.
Дух говорит: "В ней путь к сиянью рая.
Кто не боится вздохов и трудов,
Всегда глядеть в ее глаза готов".
Противоречья разрушает он
И мысль смущенную, что говорила
О юном ангеле на небесах.
Душа рыдает, скорбь ее пленила.
"Чем утешитель добрый мой смущен,
Зачем бежит?" -- сказала вся в слезах
И о моих промолвила глазах:
"Зачем на них взглянула эта дама?
Зачем не верила словам о ней?
В ее очах сокрыт, владыка дней
Подобных мне разит стрелою прямо.
И сил во мне, как перед смертью, нет
Не созерцать меня палящий свет".-
"Ты не мертва, а лишь поражена,
Моя душа, лежишь, изнемогая,-
Любовный малый дух проговорил,-
Тобою правит госпожа благая;
Ее влияньем преображена,
Страшишься только власти низких сил.
Смотри, смиренный облик дамы мил.
И сострадательна, и куртуазна
Премудрая. Величия полна,
Пусть над тобою властвует она
И будет в чудесах многообразна.
И скажешь ты: "Владыка дней, Амор,
Готова выслушать твой приговор".
Канцона, будут редки, мнится мне,
Те, кто твоим ученьем насладятся,-
Столь труден, столь возвышен твой язык.
Но коль тебе придется повстречаться
С тем, кто твоим стремленьям чужд вполне,
Утешься,-- пусть он в тайну не проник,
Скажи ему, являя новый лик,
Покорный гармоническому строю:
"О, полюбуйся хоть моей красою!"
I. После вступительного рассуждения в предыдущем трактате мною, распорядителем пира, хлеб мой уже подготовлен достаточно. Вот время зовет и требует, чтобы судно мое покинуло гавань; посему, направив парус разума по ветру моего желания, я выхожу в открытое море с надеждой на легкое плавание и на спасительную и заслуженную пристань в завершение моей трапезы1. Однако, чтобы угощение мое принесло больше пользы, я, прежде чем появится первое блюдо, хочу показать, как должно его вкушать.
Я говорю, что, согласно сказанному в первой главе2, это толкование должно быть и буквальным и аллегорическим. Для уразумения же этого надо знать, что писания могут быть поняты и должны с величайшим напряжением толковаться в четырех смыслах3. Первый называется буквальным, [и это тот смысл, который не простирается дальше буквального значения вымышленных слов,-- таковы басни поэтов. Второй называется аллегорическим]4; он таится под покровом этих басен и является истиной, скрытой под прекрасной ложью5; так, когда Овидий говорит, что Орфей своей кифарой укрощал зверей6 и заставлял деревья и камни к нему приближаться, это означает, что мудрый человек мог бы властью своего голоса укрощать и усмирять жестокие сердца и мог бы подчинять своей воле тех, кто не участвует в жизни науки и искусства; а те, кто не обладает разумной жизнью, подобны камням. В предпоследнем трактате7 будет показано, почему мудрецы прибегали к этому сокровенному изложению мыслей. Правда, богословы понимают этот смысл иначе, чем поэты; но здесь я намерен следовать обычаю поэтов и понимаю аллегорический смысл согласно тому, как им пользуются поэты. Третий смысл называется моральным8, и это тот смысл, который читатели должны внимательно отыскивать в писаниях на пользу себе и своим ученикам. Такой смысл может быть открыт в Евангелии, например когда рассказывается о том, как Христос взошел на гору, дабы преобразиться, взяв с собою только трех из двенадцати апостолов, что в моральном смысле может быть понято так: в самых сокровенных делах мы должны иметь лишь немногих свидетелей.