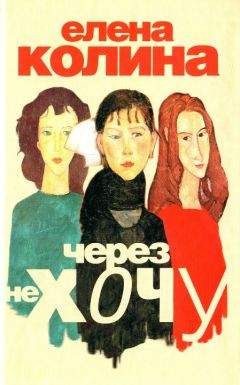— Дайте мальчику светильничек — пусть совместит приятное с полезным: мы — девочку потрахаем, он — свет прольет на это божественное действо, полюбуется, как мы будем развлекаться с его подружкой…
Что происходило дальше, Тоня запомнила, как ужасный сон: к ней протянулись сразу со всех сторон крепкие мужские лапы, все-все в наколках, плохо мытые, и полетели ее одежды в разные стороны…
Эмиль пытался сопротивляться: «Да вы что, мужики, побойтесь Бога! Ну проиграл я ее, и без того тошно, а вы — с фонарем меня поставить, чтоб еще тошней было… ну, братцы!.
— Во, видел? — придвинулся к носу Эмиля огромный черный кулак — это обрел дар речи здоровый мрачный парень, молча просидевший во всё время затянувшейся игры где-то в сторонке. — Умеешь с горки кататься, значить, и саночки тащи! Ну ты, козел! — уткнулся в Эмилев подбородок кулачище, и Эмиль увял, сник, замолчал…
…Тоню насиловали спокойно, не торопясь, растягивая удовольствие. Всё это время Эмиль стоял с высоко поднятым фонарем в руке, освещая место действия. Когда под утро оргия подошла к концу, и шпана засобиралась с обжитого чердака прочь, предводитель картишников, поблескивая металлическими зубами, плюнув в лицо смертельно уставшему Эмилю, сказал:
— Вообще-то не бабу твою бы надо трахать, а тебя. Подонок же ты, парень, и какой редкостный!
И вся банда по одному, проходя мимо Эмиля, застывшего с дурацким фонарем в руках, смачно плевала ему в рожу…
Тоня не знает, не помнит, куда девался, что с ним, любезным ее дружком, стало — просто исчез Эмиль из ее жизни, будто и не было. Тем более что пришла в себя она после этой чудовищной истории, уже через две недели в психиатрической больнице. Психоз, который она тогда пережила, самым странным образом извратил ее личность: с того достопамятного изнасилования Тоня всё время умудрялась попадать в групповуху, пропуская за ночь по десять и более человек. Это может показаться невероятным, однако в самый последний раз она в очередной раз попала в КВД после ночи, проведенной на куче угля. Даже ко всему привычные, многоопытные девицы из КВД, услышав эту историю, обалдело таращат глаза:
— Врешь!
— Не, не вру, — вздыхает Тоня. — Бросили меня на кучу угля и давай один за другим ко мне лезть…
— А ты что?!
— А я жрать хотела — ужас! Сказала одному мужику, он мне кусок колбасы принес. Там кто-то пыхтит на мне, трудится, а я колбасу грызу, успеваю…
— Тонь, ты чо, дура, а? Да ты как же живая-то осталась?!
— Как-как… осталась вот. А самый последний, это… бутылку мне забил.
— Ка-ак?! — враз, не выдержав, ахнули все девчонки в палате.
— Да вот так! — вздохнула и устало улыбнулась Тоня. — Вот так! Это, говорит, сука, тебе на закуску…
— А ты?!
— А вот тут-то я и вырубилась. Потеряла сознание… В себя прихожу — кое-как сообразила, где это я. КВД родной, как же без него… Ну, намаялись врачи. Я уж про себя-то не говорю, чо со мной-то было, пока поджило маленько, сами понимаете…
Девчонки в палате ненадолго притихли, вроде бы даже призадумались. Но привычка жить, не обременяя себя излишними соображениями, вскоре взяла верх, и разговор лениво потёк дальше…
Одной из самых заметных фигур в диспансере была Лялька. Ей — одиннадцать лет, в КВД — третий раз — не по возрасту крупная, расплывшаяся, медлительная девочка с удивительно чистыми, огромными синими глазами, с детским румянцем на щеках, она поступает сюда, как в дом родной, с цветущей гонореей. Это кажется совершенно невозможным, чудовищным, нелепым, но, увы, это — так.
Лялька — проститутка-профессионалка для любителей клубнички разного пола и возраста. К таким „заработкам“ пристроила и приохотила девчонку мать. Сама-то она в свои неполные тридцать лет — развалина-развалиной, а вот на дочку ее охотников немало есть, и за о-очень хорошие деньги, и, как правило, весьма приличная публика. Лялька в разговорах с врачами тоже несет ахинею про неизвестного „мальчика“, с которым у нее „было“, но ни имени, ни возраста, ни адреса „мальчика“ назвать не может. Лялька знает, что если она расскажет, как на самом деле происходит, ее отберут у матери, поместят в детский дом, заставят учиться. А она за минувшие два года отвыкла от учебы, от какой бы то ни было работы, мама бережет ее для одной — постельной… И другой жизни Лялька уже не хочет…
И врачи, прекрасно понимающие, где истина, в бессильном гневе только разводят руками после встреч с Лялькиной матерью: ну, что тут изменишь, как, каким боком тут вмешаешься?!
Лялька же, при всей своей внешней заторможенности, артистка великая, и девчонки в палате прекрасно об этом знают.
— Лялька, изобрази? — просит Тонька-Сука, и девочки мгновенно стихают в предвкушении веселого зрелища.
И юная артистка начинает „изображать“…
Вот, оттопырив зад, беспрестанно почесываясь, в их с мамой квартиру вваливается очередной клиент. Он озабоченно оглядывается, поминутно вздрагивает от малейшего шороха, потом охорашивается у зеркала — прилизывает свою и без того лысую головенку, сопит, кряхтит, ковыряет в носу, долго отсчитывает оговоренный гонорар…
Вот является на квартиру дама-лесбиянка, быстрая, как молния, гордая и глупая, как гусыня. Она гоняется за маленькой девочкой, как кошка за мышью, успевая стаскивать с себя на ходу платье, рубашку, туфли…
Палата заходится от хохота.
Раскрасневшаяся, с горящими глазами Лялька сейчас кажется удивительно красивой, талантливой девчушкой, она становится гибкой, верткой, поразительно пластичной, и никак не верится, что полчаса назад это именно она лениво слонялась по коридору, всем своим видом выражая смертную тоску и скуку..
Участвовать в общих разговорах Нюшка, понятное дело, не могла. Изуродованной девочке оставалось одно: сидеть и слушать, и, надо сказать, эти качества за минувшие три года сделали ее поразительно догадливой, вдумчивой и понимающей. Так уж сложилось, что и товарки по несчастью, и врачи, и вообще все люди, с которыми сталкивала Нюшку жизнь, не пытаясь что-либо понять, в чем-либо по-настоящему разобраться, безоговорочно, с первой встречи, начинали считать эту маленькую уродину умственно неполноценной, а коли так — уже и не брали ее в расчет, говорили при ней всё, что захочется: ну чего же дурочку стесняться!.. И какие же мерзости души человеческой, какие подлости и — какое величие и благородство человеческое в то же время открывалось перед ней, которую и за человека-то не считали!..
Нюшка научилась внешне вообще никак не реагировать на происходящее, так было интереснее и безопаснее, и — смотрела, слушала, запоминала…
Иногда она думала, что, если бы в жизни ее случился какой-нибудь чудесный поворот и у нее снова бы появился дом, в котором она смогла бы спокойно жить, никому ничего не объясняя, она бы непременно попробовала писать книги.
Ей казалось иногда, что не пятнадцать лет прожила она на свете, а гораздо больше — может, пятьдесят, а, может, и все сто.
Будь она писателем, она бы непременно рассказала людям про дядю Егора — даже сейчас, три года спустя, при воспоминании об этом святом человеке на глаза наворачивались слезы…
Когда из квартиры Натальи Владимировны Нюшка ушла, якобы, домой, а на самом деле — куда глаза глядят, только бы подальше от ставших ненавистными отца и матери, она, не очень-то размышляя, направилась на городской вокзал. Почему туда? Ну, она и раньше от старших девчонок слышала, как они рассуждали о "шлюхах вокзальных" — разве она теперь, после всего, что с ней случилось, не шлюха? Нюшка, еще совсем недавно бывшая для всех Аннушкой, считала, что случившееся с ней несчастье на веки-вечные замарало ее неотмываемой грязью. Не отмыться теперь, не заиметь снова доброго имени!
А самое главное, ведь и не объяснишь людям, что произошло: при малейшей попытке произнести хотя бы самое простое слово изо рта ее брызгал фонтан слюней и раздавалось нечто столь нечленораздельное, что Аня-Нюшка вскоре прекратила вообще какие-либо попытки что-то произносить вслух.
И вот она, тогда еще двенадцатилетняя девочка, со страшно изуродованным лицом, с горящими, как угольки, исподлобья глазами, появилась в одном из пассажирских залов ночного вокзала. Мимо то и дело сновали озабоченные мужчины и женщины в железнодорожной форме, величественно проплывали милиционеры с каменными лицами, и Нюшка от всех испуганно шарахалась, не знала, куда себя деть.
Наконец, уже заполночь, когда основная часть пассажиров расположилась на лавках, поближе придвинув к себе свой багаж, девочка поняла, что она начинает вызывать подозрение у тех же милиционеров и вокзальных уборщиц, без дела болтаясь по залам, буфетам и туалетам. И тогда, собравшись с духом, она проскользнула в служебный вход, под огромную черную лестницу, где, как она полагала, ее никто не найдет, даже если будет искать специально. И точно: под лестницей оказалось огромное неосвещенное пространство, чуть ли не целый зал, очень удобный в том смысле, что вокзальные служители явно не докучали здесь никому своими визитами. Куда ни ткнись — везде висела густая жирная паутина, звякали под ногами какие-то консервные банки, стекло… Нюшка совсем растерялась: ни зги не видать под этой лестницей, даже невозможно рассмотреть, где можно сесть или встать.