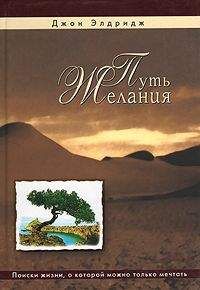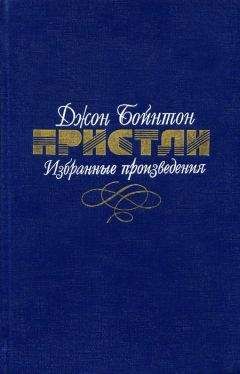- При жизни! - вскричал я, - так, выходит, он умер.
- А как вы могли еще в этом сомневаться? Вы же ведь знали, кто нанес ему удар? Ни одна из моих жертв не стоила мне лишней секунды.
- Вы? Вы?
В глазах у меня разлилось море пламени и крови. Меня снова охватил порыв безумия, и помню только, как я разражался такими проклятиями, что если бы господь захотел воздать мне за них сполна, при всем своем могуществе он выбился бы из сил. Бред мой, может быть, продолжался бы и доле, до тех пор, пока разум окончательно бы не повредился, но раздавшийся вдруг неистовый смех все заглушил, и раскаты его прогремели громче извергнутых мною проклятий.
Услыхав этот смех, я замолчал и пристально на него посмотрел, словно ожидая в эту минуту увидеть не его, а кого-то другого, но это был он.
- А вы еще мечтали, - вскричал он, - вы были настолько безрассудны, что мечтали обмануть монастырскую бдительность? Два юнца, один обезумевший от страха, а другой - от дерзости, и вы решили пойти против этой умопомрачительной системы, которая пустила корни в недра земли, а голову подняла к звездам? _Вам_ убежать из монастыря! _Вам_ справиться с силой, которая сама справилась не с одним государем! С силой, чье влияние безгранично, неописуемо и неведомо - даже тем, кому она оказывает услуги. Есть ведь дворцы такие огромные, что обитателям их порою до конца жизни не удается заглянуть в иные из комнат. С силой, действие которой подобно ее девизу: "Едино и нераздельно". Дух Ватикана живет в самом захудалом испанском монастыре, а вы, несчастный червячок, прилепившийся к одному из колес этого огромного механизма, вообразили, что способны остановить его движение, не видя, что стоит только колесу повернуться, и оно вас раздавит.
Произнес он все это с такой быстротой, с такой силой, что, казалось, одно слово проглатывало другое, а я в это время пытался разобрать их, напрягая ум так, что усилия мои походили на прерывистое дыхание человека, которому долго не давали перевести дух, пытался понять их и не потерять нить его речи. Первой мыслью моей было - и это не так уж невероятно в моем положении, что говорит со мной кто-то другой, а вовсе не тот, с кем я бежал из монастыря, и, напрягая свои последние силы, я старался определить, так это или нет. Достаточно ведь будет задать ему несколько вопросов, но хватит ли у меня духу выговорить эти слова?
- Разве вы не помогали мне в моем побеге? Разве не вы были человеком, который... Что толкнуло вас на это предприятие, неудаче которого вы, как видно, радуетесь сейчас?
- Подкуп.
- Но вы же сами говорите, что вы меня предали, и хвастаетесь этим - что же вас побудило так поступить?
- Другой, более высокий подкуп. Брат ваш давал мне золото, а монастырь обещал мне спасение души, и мне очень хотелось, чтобы этим делом занимались монахи, сам-то я совершенно не знал, с какой стороны к нему подступиться.
- Спасение души! За предательство и убийство?
- Предательство и убийство... какие громкие слова. Уж если говорить правду, то разве с вашей стороны не было предательства, да еще похуже? Вы отреклись от своих обетов, перед богом и перед людьми вы объявили, что прежние ваши заверения - детский лепет; потом вы ввели брата вашего в соблазн пренебречь своим долгом перед родителями - его и вашими, вы потакали его замыслу, который нарушал покой монастырской братии и осквернял ее святыню. И после этого у вас еще язык поворачивается говорить о предательстве? А разве в самих вас не омертвела совесть - случай беспримерный в такие юные годы! Замыслив побег, вы взяли себе в товарищи нет, не просто взяли, а ухватились за него - другого монаха, зная, что соблазняете и его отречься от принятых им обетов - от всего, что свято чтут люди, и того, что бог (если только на свете есть бог), должно быть, считает непреложным законом для человека. Вы знали, какое преступление я совершил, знали, сколь отвратителен я сам, и, однако, вы сделали меня своим знаменем, когда восстали против Всевышнего. А ведь на этом знамени огненными буквами были начертаны слова: нечестие, отцеубийство, безбожие. Знамя это успело уже превратиться в лохмотья, но оно все еще висело в углу возле алтаря, а вы утащили его оттуда, чтобы накрыться им и спрятаться в нем от погони, - и вы еще смеете говорить о предательстве? Нет на свете более подлого предателя, чем вы сами. Пусть я был самым низким, самым преступным существом на земле, так неужели же вы должны были примешивать к замаравшей мои руки крови багровые сгустки вашего отступничества и святотатства? Вы говорите об убийстве - да, я знаю, что я отцеубийца. Я перерезал горло отцу, но он даже ничего не почувствовал; так же, как и я: в эту минуту я был опьянен вином, страстью, кровью - не все ли равно чем. Ну а вы? Хладнокровными, обдуманными ударами вы разили отцовское и материнское сердце. Вы убивали их постепенно, а я - одним ударом: так кто же из нас двоих убийца? А вы еще болтаете о предательстве и пролитии крови. В сравнении с вами я невинен как дитя, только что появившееся на свет. Знайте же, родители ваши расстались: мать удалилась в монастырь, чтобы скрыть от людей отчаяние свое и позор, который вы навлекли на нее своим ужасным поступком, отец ваш бросается из одной бездны в другую, переходя от сладострастия к покаянию и чувствуя себя несчастным и в том и в другом; брат ваш, предприняв отчаянную попытку спасти вас, погиб сам. Вы принесли несчастье всей семье, вы лишили всех ваших близких покоя и поразили им сердца рукою, которая, не дрогнув, спокойно наносила каждому заранее обдуманный удар. И после всего у вас еще язык поворачивается говорить о предательстве и убийстве? Каким бы преступником вы меня ни считали, знайте, вы в тысячу раз преступнее меня. Я стою, как спаленное молнией дерево; меня поразили в самое сердце, в самый корень, я сохну - один. А вы, вы - это ядовитое дерево Упас {6}, от смертоносного сока его погибает все живое - отец, мать, брат и, наконец, вы сами: проступившие капли яда, если им не на кого устремиться, обращаются вовнутрь и добираются до вашего собственного сердца. Ну что ж, несчастный, осужденный всеми на свете, тот, кому не приходится ждать ни сочувствия от людей, ни искупления грехов от Спасителя, что вы на это скажете?
Вместо ответа я только снова спросил:
- Неужели Хуана нет в живых, и убийца его - это вы? Я верю всему, что вы говорите, я, должно быть, действительно совершил великое преступление, но неужели Хуан погиб?
Говоря это, я поднял на него глаза, которые, казалось, уже ничего не видели, лицо мое не выражало ничего, кроме оцепенения, какое приносит нам великое горе. Я уже был не в силах упрекать ни его, ни себя, страдания мои были так велики, что их нельзя было излить в жалобах или стонах. Я ждал, пока он ответит; он молчал, но этим сатанинским молчанием было сказано все.
- А моя мать ушла в монастырь? Он кивнул головой.
- А мой отец?
Он усмехнулся. Я закрыл глаза. Я мог вынести все что угодно, но только не эту его усмешку.
Когда немного погодя я снова поднял голову, я увидел, как он привычным движением (у него это могло быть только привычкой) крестится, ибо где-то далеко в коридоре раздался бой часов. Глядя на него, я вспомнил пьесу, которую так часто давали в Мадриде и которую мне довелось увидеть в те немногие дни, когда я был на свободе, - "El diablo Predicador" {"Дьявол-проповедник" {7} (исп.).}. Вы улыбаетесь, сэр, что в такую минуту я мог вспомнить об этом, но это действительно было так, и если бы вы видели эту пьесу при тех обстоятельствах, при которых довелось ее видеть мне, вы бы не удивились, что подобное совпадение меня поразило. Героем этой пьесы является дьявол; приняв обличье монаха, он проникает в монастырь, где терзает и преследует монашескую братию с поистине сатанинской смесью злобы и безудержного веселья. В тот вечер, когда я был на этом представлении, несколько монахов несли умирающему Святые дары; стены театра были настолько тонки, что зрители могли ясно слышать звон колокольчика, который при этом всегда раздается. И вот в один миг все - актеры, зрители и все прочие опустились на колени, и дьявол, который был в это время на сцене, последовал их примеру и стал креститься, выказывая отнюдь не свойственное ему благочестие, которое, однако, возвышающе действовало на душу. Согласитесь, что совпадение это было поистине поразительно.
Когда окончилась эта чудовищная профанация крестного знамения, я пристально на него посмотрел, и выражение моего лица было отнюдь не двусмысленным. Он понял, что оно означало. Молчание всегда бывает самым горьким упреком, оно заставляет преступника прислушаться к голосу собственной совести, а той всегда ведь есть что ему сказать и что служит отнюдь не к его утешению. Взгляд мой привел этого человека в бешенство, которого, - я в этом теперь убежден, - не могли бы вызвать даже самые горькие упреки. Самые неистовые проклятия сделались бы для слуха его сладчайшей музыкой; они явились бы лучшим доказательством того, что он сделал все что только мог, чтобы усугубить страдания своей жертвы. А теперь он бесился от ярости.