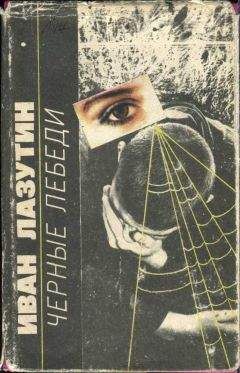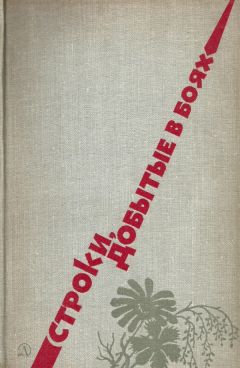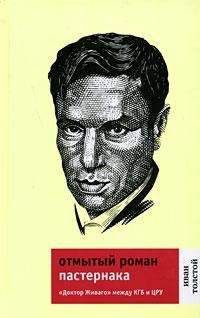А самое обидное… Самое обидное, что я пережила в эту зиму, — это то, что он уговорил меня избавиться от ребенка. А как я хотела иметь ребенка! Он настоял на том, чтобы еще годочка два пожить «для себя», что нам предстоит еще более ответственная командировка в другую страну. Сейчас я в таком состоянии, что врачи не могут сказать определенно — смогу ли я когда-нибудь быть матерью. Когда я поделилась этой нависшей надо мной бедой с Григорием Александровичем, он только пожал плечами и сказал, что ничего страшного в этом не находит. Потом долго объяснял, что на пути к большой цели, которая требует жертв, дети иногда бывают даже помехой.
Я всю ночь проплакала после такого «утешения». Он это видел, но это его нисколько не тронуло. Временами мне кажется: если бы какие-нибудь черные силы шепнули ему, что дорога к звездам, о которых он мечтает, лежит через мой труп, — он не поколебался бы.
А сейчас к его начальнику приехала старшая дочь. Она заканчивает в Москве институт иностранных языков. И вот Григорий Александрович знакомит ее с Бухарестом. Уж где они бывают и что делают — для меня остается тайной. Только приходит он во втором часу ночи и спит до десяти. Догадываюсь, что много пьет.
Однажды я напомнила ему наказ матери. Он раскрыл томик Пушкина и прочитал мне стихи о художнике и сапожнике. Не подумай, что у меня ревность к этой московской гостье, нет, она слишком безобразна, чтобы стать вровень со мной. Просто обидно. Уж я ли не была внимательной и заботливой женой? Родину покинула с единственной мыслью: быть ему твердой опорой всегда и всюду. А он устал от моей любви, она стала тяготить его, и он часто просит оставить его в покое.
Никогда еще в жизни я не была так одинока, как сейчас. Только тебе одной, моя милая Оля, я могу поведать боль души. Дедушке я пишу бодрые письма и улыбаюсь в них сквозь слезы. А на днях получила письмо от Марфуши. Она его продиктовала кому-то. Пишет, что дедушка стал совсем плохой, все больше болеет. На работу выезжает все реже и реже. И часто подолгу молча рассматривает мои фотографии.
Временами мне кажется, что я стала Григорию Александровичу обузой, и он создает (медленно, но верно) такую обстановку, которая была бы для меня невыносимой. Зачем он это делает — пока еще не пойму.
Вижу только одно: он становится совсем чужой. Бывают дни, когда мы обмениваемся лишь двумя-тремя словами.
Вчера во время прогулки я встретила дочь нашего начальника — московскую гостью. Если б ты видела, какими злыми глазами она посмотрела на меня. Как женщина, я многое прочитала в этом взгляде. Она даже не ответила на мое приветствие. Боюсь, как бы Григорий Александрович в своих обязанностях гида не зашел очень далеко. Влюбить в себя четырехлетнего малыша — это дело неопасное, но обольстить (вот именно обольстить — эта потребность у него уже в крови) взрослую девушку, которая, как говорят, очень избалована, — это может повлечь за собой дурные последствия.
Ну, ладно, хватит жалоб. Я уже надоела тебе своим нытьем.
Милая Оля, как тянет домой! На полях Подмосковья сейчас лежит снег. Родину по-настоящему начинаешь ценить, когда очутишься на чужбине. Все, что когда-то было самым будничным и обычным, здесь, далеко от родной земли, приобретает особый отсвет и значение. Вот даже сейчас закрываю глаза — и вижу наш сад в Малаховке, чувствую запах соснового бора после дождя. Вижу широколистные лопухи на деревенском огороде, где я однажды зашла босиком в крапиву (искала мячик) и так нажгла ноги, что целый час ревела.
Сейчас уже за полночь. Григория Александровича все еще нет. Он все еще на «работе».
Однажды мимоходом он сказал во время обеда (у него было отличное настроение), что шеф его, по некоторым неофициальным слухам, идет на солидное повышение. Вот и усердствует.
И еще у меня к тебе маленькая просьба. Если будет удобно — узнай как-нибудь через соседей, как живет Струмилин. Как его здоровье? Где сейчас Танечка?
Я так устала, милая Оля! Вначале плакала, а сейчас даже слезы пересохли. Передай привет Дмитрию Георгиевичу и маме.
Жду твоего ответа. Целую. Лиля».
Письмо на этом заканчивалось. Но в конверте лежало еще два листочка. Ольга посмотрела на даты и поняла, что второе письмо было написано спустя две недели после первого.
Ольга начала читать остальные листы.
«Дорогая Оля!
Прости, что задержала письмо. Но это не из-за неаккуратности. На второй день после того, как я исписала тебе несколько листов, в мою жизнь ворвалась новая тревога. А потом все так закружилось, что я не стала различать, где день, где ночь. Я уже писала тебе, что Григорий Александрович свою работу успешно сочетает с трогательной дружбой с семьей своего шефа. Писала и о том, что последнее время он почти не разлучался с дочкой своего начальника. И переусердствовал. Девица оказалась не в меру впечатлительной и экспансивной. У них завязался роман. Как стало известно даже мне, начало этого романа относится к третьему дню их поездок по окрестностям Бухареста. Какой будет развязка — судить не могу. Но ясно одно: Растиславский был неосмотрителен, перешагнув барьер гида и чувствуя себя вполне великолепно в роли мопассановского милого друга. Девица оказалась при всей ее кажущейся наивности с мертвой хваткой. Устроила такой шум, что Растиславский ходит мрачнее тучи. Она потребовала, чтобы он развелся со мной и женился на ней. Узнал обо всем этом и сам шеф. Узнала мать. Оказывается, девица рассказала. Вчера вечером шеф вызвал к себе Растиславского. У них была продолжительная беседа. О чем говорили — знают только они двое.
Со мной Григорий Александрович стал предельно корректен и вежлив. Чувствую, он что-то задумал. Я решила проверить свои предположения. Сказала ему, что мне все известно, что положение опозоренной и обманутой жены меня не устраивает. Я говорила долго. Он молчал и слушал, опустив низко голову, с лицом кающегося грешника. Потом я заговорила о том, что больше мне рядом с ним нечего делать. Он настороженно поднял голову. Я поняла, что он в растерянности. Потом сказала ему то, чего он так напряженно ждал. Я заявила, что уезжаю в Россию, и не позже, чем в этом месяце. Если бы ты видела в эту минуту его лицо! На нем было два выражения: фальшивое страдание отвергнутого мужа и сияющее ликование трусливого человека, выкарабкавшегося из беды. Жалкий и омерзительный человек, для которого нет ничего святого! На крышке костяного портсигара (с внутренней стороны) у него выгравированы слова, которые объясняют всю его сущность: «Обер давит унтера».
Вот он какой — этот человек, ради которого я ушла от Струмилина!
Растиславский стоял на коленях и просил меня, чтоб своим отъездом я не зачеркнула все то, чего он достиг в жизни. Боится официальной огласки своей мерзости. Когда я спросила, что от меня для этого требуется, он ответил: «Выезд твой на Родину должен быть мотивирован тяжелой болезнью дедушки».
Видишь, как он все заранее продумал. С какой удивительной точностью расписана вся партитура подлости! И я знаю: если его прогонят с работы («отзовут», как нашкодившего кота), он упадет мне в ноги, будет обливаться слезами и просить прощения. И я могу простить. А я не должна. Я не хочу ему прощать. Он слишком методично и планомерно калечил мою жизнь, чтобы мне быть великодушной.
Вот такие у меня дела, моя дорогая Оля. Передай привет всем нашим. Думаю, что я еще к вам вернусь, если примите. Сейчас живу одной мыслью: скорей бы на Родину!
Думаю, что это мое письмо — последнее.
Итак, дорогая Оля, до скорой встречи!
Остаюсь — твоя Лиля».
Ольга положила письмо на валик дивана и задумалась. Она отчетливо представляла себе лицо Лили в те минуты, когда та писала письмо. И особенно горько стало на душе, когда вспомнила Струмилина, его дочурку Таню. Она представляла его таким, каким видела в последний раз на перроне, под проливным дождем. Но поздороваться с ним тогда Ольга не решилась. Сделала вид, что не заметила. Не хотела, чтоб о его приходе знала мать Растиславского.
В этот же вечер Ольга написала Лиле письмо, в котором настаивала, чтоб та немедленно выезжала. И так устала от письма, что уснула сразу же, как только накормила дочурку.
Она не слышала, как пришел из читальни Дмитрий, как он разделся, как поужинал. Так крепко спят только молодые матери, измученные за день домашней колготой и грудным ребенком.
Поднимая гирьку стенных ходиков, Дмитрий увидел на маленьком столике исписанные листы. Письмо, как обычно, начиналось с исконно русского — «Здравствуй, дорогая…» В письме Ольга возмущалась поведением Растиславского, умоляла Лилю скорее возвращаться на Родину, где ее ждут дедушка, друзья. Дмитрий перевернул страницу. На обороте прочитал:
«…Ты спрашиваешь о Дмитрии? О нем я могу написать только хорошее. Он по-прежнему успешно работает в школе, преподает логику и психологию. В работу свою влюблен, как фанатик. Если в следовательской работе его вело вдохновение, то здесь его обуяла страсть. К урокам готовится так, как будто идет читать открытую лекцию в институте. На прошлом педсовете на него жаловались директору другие учителя. Ученики так увлеклись логикой и психологией, что стали хуже учить предметы, которые в школе являются основными. В пяти десятых классах и в пяти девятых у него за весь год не было ни одной тройки. В последний месяц на его уроки стали часто ходить учителя из других школ. Мне, конечно, это приятно. Ученики его очень любят. В эту зиму он раза три ходил с классом в туристические походы. Я иногда его даже ревную к школе.