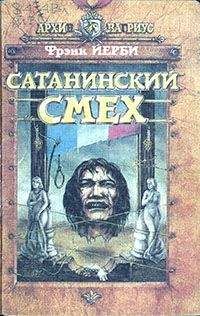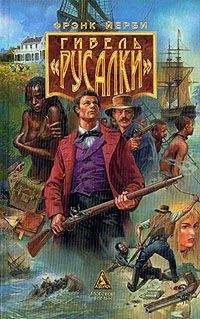- Что именно ты не хотела сказать, дитя мое? - спросил Аристон.
- Ой, я сама не знаю, что я хочу сказать! - простонала Клеотера. Прошу вас, присаживайтесь! Я сейчас принесу вам рисовый пирог и немного вина. Я сама его испекла. Я...
- В таком случае для меня он будет восхитительнее божественного нектара, - произнес Аристон своим серьезным звучным голосом.
- Прошу тебя, мой господин, не говори мне таких слов! - сказала Клео и скрылась за занавеской.
- Я помогу тебе, - крикнула ей вослед Феорис и отдернула занавеску. Однако она осталась стоять в проходе, держа занавеску так, чтобы Аристон мог видеть все происходящее на кухне.
Клеотера стояла к нему спиной в позе дельфийской жрицы, вдыхающей дым синего пламени, который позволял ее душе общаться с богами. Она пристально разглядывала тыльную сторону собственной ладони, то место, куда Аристон поцеловал ее. Затем медленно, словно в тумане, с невыразимой нежностью она поднесла его к своим губам.
Феорис опустила занавеску и одарила его торжес! вую-щей улыбкой.
- Ты не возражаешь, если я покину тебя, Клео? - громко сказала она. - У меня там ребенок один, и...
- Ой, Феорис, не уходи, прошу тебя! - Клеотера была готова расплакаться. - Я...
- ...не хочу оставаться наедине с этим грязным старым сатиром, подхватил Аристон, - с этим отродьем Пана, который наверняка...
Она отдернула занавеску и вошла в комнату.
- Дело вовсе не в тебе, мой господин. Это все Орхомен. Ему может не понравиться, если...
- ...он узнает об этом, что совершенно исключено, - заверила ее Феорис. - Клео, дорогая, мне в самом деле нужно идти. И к тому же, поверь мне, я знаю Аристона не первый год. Он изобрел для себя особый способ самоконтроля, и его добродетель столь непоколебима, что это может вывезти из себя кого угодно. Так что разреши ему остаться
и немного поболтать с тобой. Это пойдет на пользу вам обоим. Прощайте же, о прекраснейшие!
Когда она ушла, Аристон долго ел пирог и пил вино. Но разговор между ними не клеился. Слова вдруг стали тяжелыми, как каменные глыбы; они с трудом срывались с их губ и тут же проваливались в бездонные глубины молчания.
Это становилось невыносимым. Аристон поднялся на ноги.
- Ну что ж, до свидания, Клео, - сказал он.
- Ты уже уходишь? Так быстро? - жалобно проговорила она.
Аристон улыбнулся.
- Мне кажется, что мое общество не доставляет тебе удовольствия, сказал он.
- О нет! Я просто...
- Ты просто нервничаешь, потому что боишься меня, и...
Она покачала головой с какой-то отчаянной решимостью.
- Я не тебя боюсь, мой господин, - прошептала она.
- А кого? Орхомена? - спросил Аристон.
- И не его. - Ее голос был тише самого легкого вздоха.
- Тогда кого же? - спросил Аристон.
- Себя, - выдохнула она и, резко повернувшись, ринулась к спасительной занавеске.
Но какими бы стремительными ни были ее движения, он был еще быстрее. Он поймал ее за плечи и очень нежно и плавно развернул к себе. Он молча стоял и смотрел ей в лицо, не разжимая своих объятий. Теперь она была белее полотна, вся кровь отхлынула от ее щек. Она разжала губы - он ждал гневного протеста, - но все, что они произнесли, было лишь его имя, прозвучавшее в ее устах как звон серебряных колокольчиков, покачиваемых легким ветерком.
- О Аристон, Аристон!
Тогда он наклонился и нашел ее губы; он поцеловал их без страстного желания, но с такой мучительной, раздирающей душу нежностью, что он испытал почти физическую боль; он упивался ее мягкими, теплыми, солеными от слез
губами, похожими на лепестки какого-то заморского цветка, бесконечно хрупкими, невыразимо дорогими.
Затем он разжал руки и отпустил ее. Но она даже не пошевелилась. Она все так же неподвижно стояла, касаясь его губ своими губами, и прикосновение это было столь легким и невесомым, что, казалось, его и вовсе не было. Время для них остановилось, оно замерло вместе с их дыханием, и это продолжалось до тех пор, пока он не дотронулся до ее плеча и не вернул обратно в этот жестокий мир, полный боли и страданий.
Она стояла и смотрела на него, и огромные слезы расплавленным серебром жгли ей глаза, сверкая на ее золотистых ресницах.
- Клео, - простонал он.
- О Аристон, - прошептала она. - О господин мои, жизнь моя, я так люблю тебя!
Если бы кто-нибудь в Афинах узнал об их тайной любви, он бы никогда не поверил, что они избегают плотских утех. Даже Феорис, которая не только знала, но и активно содействовала их свиданиям, не могла в это поверить. И тем не менее Артемида и Гестия свидетельницы, что любовь их была, в сущности, столь же невинной, как и детские игры.
Возможно, дело в том, что здесь, в Афинах, где можно было безо всякого труда, в любое время дня и ночи, удовлетворить любое, самое извращенное желание, единственно ценным, что он мог бы ей предложить, единственно достойным ее оставалось только воздержание. А возможно, что, впервые познав любовь после смерти несчастной Фрины, он невольно обожествлял ее, превращал в некий культ, в котором Клеотере отводилась роль верховной богини. Ну, а она, чей опыт физической любви сводился к периодическим надругательствам Орхомена, который брал ее без каких-либо вступлений, зачастую не удостаивая даже поцелуя, не считаясь с ее желаниями, так что вся процедура ассоциировалась у нее с грубым насилием, причем не только над ее израненным, всегда неподготовленным и оттого еще более страдающим телом, но и над всем, что было в ней утонченного, изящного, прекрасного, над самим ее представлением о себе, ее сущностью, индивидуальностью, над ее душой,
она радовалась сдержанности Аристона и поначалу даже поощряла ее.
Но со временем, будучи, в конце концов, влюбленной женщиной, познавшей впервые в жизни мужскую нежность и ласку, она постепенно стала ощущать себя существом из плоти и крови, причем жаркой плоти и кипящей крови, да к тому же и из нервов, которые могут всю ночь звенеть, как туго натянутые струны, не давая ни минуты покоя.
Очень скоро он обнаружил, что она может чисто по-детски выходить из себя, плакать без каких-либо видимых причин, но его любовь к ней делала даже эти, казалось, не слишком приятные черты ее характера очаровательными и милыми в его глазах.
Все это продолжалось до той ночи, когда, охваченная потребностью заставить его страдать так же, как страдала сама, тем более что даже она не могла понять причину своей депрессии - настолько общение с Орхоменом разделило в ее сознании любовь и физическое влечение, - она встретила его с опущенными глазами и сердито надутыми губками и впервые за все время их знакомства холодно, преднамеренно солгала ему.
- Я беременна, - заявила она и с жестоким удовлетворением отметила, как побелели его губы.
- От него? - пробормотал он.
- От кого же еще? - равнодушно пожала она плечами. Он повернулся и вышел прочь. Она побежала за ним, рыдая, повторяя его имя, но он даже не обернулся. Он уходил с гордо поднятой головой, прямой и непреклонный, все дальше и дальше от ее стонов и причитаний. И в ту ночь, в первый раз за много-много лет, он напился, как священная сова Афины. Он потерял всякое ощущение времени; впоследствии он никак не мог вспомнить, где же он был.
Не помнил он и как вернулся домой. Однако проснулся он в собственной постели, пребывая в непоколебимой уверенности в том, что если он попытается приподнять голову, то она тут же отвалится и покатится по полу. Он долго лежал неподвижно, пока наконец ценой невероятных усилий ему не удалось разогнать туман, застилавший ему глаза, и тогда он увидел Хрисею, которая лежала рядом с ним, улыбаясь так, будто только что одержала величайшую победу.
- Послушай, как называется то вино, которое ты пил вчера вечером? промурлыкала она.
- Понятия не имею, - простонал он. - А что?
- А то, что я куплю целую бочку этого вина! О Аристон, Аристон! О моя любовь, этой ночью...
- Что этой ночью? - пробурчал он.
- Ты любил меня, как... как бог! Как Дионис! Или Аполлон! Или сам Эрос! О мой драгоценный повелитель...
Он отвернулся и долго, с наслаждением блевал на пол спальни.
Глава XXI
На этот раз, убедившись, что зачатие состоялось, Хрисея не вставала с постели. Охваченный паникой, Аристон в полном отчаянии бросился к Офиону за обещанным снадобьем, которое должно было избавить ее от бремени, по мнению врача, смертельно опасного для нее. Четыре месяца, день за днем, он подмешивал его ей в вино.
И никакого эффекта. Снадобье не действовало. Хрисея лежала пополневшая, разрумянившаяся, довольная и даже похорошевшая, излучая мягкий, теплый свет материнства, в то время как Аристон метался из угла в угол, не находя себе места. Он позабыл о своих мастерских, о войне, в общем, был близок к полной потере рассудка. И так продолжалось до того дня, когда... в его доме появилась Клеотера.
Она возникла на пороге с распущенными волосами цвета холодного зимнего солнца; один ее глаз, украшенный огромным синяком, совершенно заплыл, в другом отражались все ужасы Тартара; ее губы распухли, засохшая струйка крови пересекала ее подбородок; огромные багровые отметины от хлыста опоясывали ее обнаженные плечи. Она стояла перед ним, дрожа всем телом, и смотрела на него, и в ее взгляде было нечто такое, во что он не мог поверить, с чем он не мог примириться: нечто невыносимое, одновременно и терзав