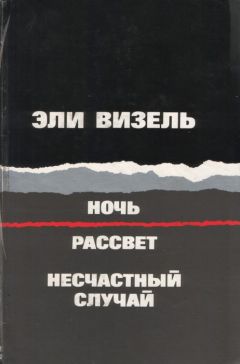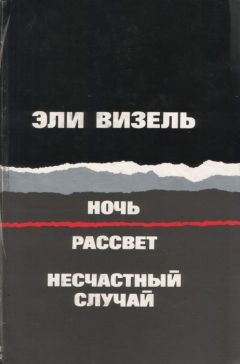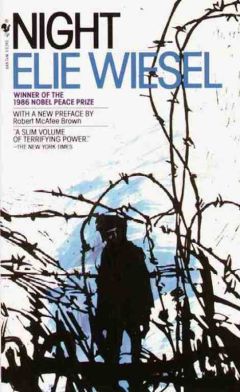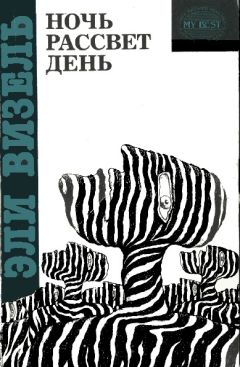Я не пошевельнулся. Что со мной произошло? Только что ударили моего отца, прямо на моих глазах, а я и глазом не моргнул. Я смотрел и молчал. Еще накануне я бы выцарапал негодяю глаза. Неужели я настолько изменился? Так быстро? Теперь меня начала терзать совесть. Я думал: никогда им этого не прощу. Отец, должно быть, угадал мои мысли. Он шепнул мне на ухо: "Совсем не больно". На его щеке еще виднелся красный след от удара.
- Всем выйти!
К нашему надзирателю присоединились еще человек десять цыган. Вокруг меня свистели хлысты и дубинки. Ноги несли меня сами собой. Я старался спрятаться от ударов за чужими спинами. Светило весеннее солнце.
- Построиться по пять!
Заключенные, которых я заметил утром, работали рядом. Никто их не охранял, только тень от трубы... Под влиянием солнечных лучей и своих размышлений я замер, но вдруг почувствовал, что кто-то дергает меня за рукав. Это был отец: "Двигайся, сынок".
Мы шагали дальше. Ворота открывались и вновь закрывались за нами. Мы продолжали идти между заграждениями из колючей проволоки под током. На каждом шагу с белых плакатов на нас смотрели черные черепа. На каждом плакате надпись: "Осторожно! Опасно для жизни!". Просто издевательство: да был ли здесь хоть какой-нибудь уголок, безопасный для жизни?
Цыгане остановились возле одного из бараков. Их сменили окружившие нас эсэсовцы. У них были револьверы, автоматы, служебные собаки.
Мы шли около получаса. Оглянувшись, я заметил, что колючая проволока осталась позади. Мы вышли за пределы лагеря.
Стоял чудесный апрельский день. Воздух был напоен весенними ароматами. Солнце уже клонилось к западу.
Пройдя еще несколько шагов, мы увидели колючку другого лагеря. Железные ворота с надписью наверху: "Труд - это свобода!".
Освенцим.
Первое впечатление: здесь лучше, чем в Биркенау. Двухэтажные бетонные строения вместо деревянных бараков. Кое-где видны маленькие садики. Нас повели к одному из этих зданий, которые назывались блоками. Мы опять ждали, сидя у входа на земле. Время от времени кого-нибудь впускали: там был душ обязательная формальность при входе во все эти лагеря. Даже если ты переходил из одного лагеря в другой несколько раз в день, всё равно нужно было пройти через душевую.
Выйдя из-под горячей струи, мы стояли, дрожа на ночном холоде. Наша одежда осталась в блоке, и нам обещали выдать новую.
Около полуночи нам приказали бежать.
- Быстрее! - кричала охрана. - Чем быстрее будете бежать, тем раньше ляжете.
Через несколько минут безумной гонки мы оказались у дверей нового блока. Там нас ждал староста блока. Это был молодой, улыбавшийся нам поляк. Он обратился к нам, и, несмотря на усталость, мы внимательно слушали:
- Друзья, вы находитесь в концлагере "Освенцим". Впереди у вас - долгий путь страданий. Но не падайте духом. Вы уже избежали самой большой опасности - селекции[13]. Что ж, соберитесь с силами и не теряйте надежды. Мы все увидим день освобождения. Верьте в силу жизни, верьте до конца. Гоните прочь отчаяние - и смерть не приблизится к вам. Ад не вечен... А сейчас, просьба, точнее, совет. Живите в дружбе. Мы все братья, и у нас общая судьба. Над нашими головами - один и тот же дым. Помогайте друг другу. Это единственный способ выжить. Хватит разговоров, вы устали. Послушайте: вы в блоке номер 17; за порядок здесь отвечаю я; можете обращаться ко мне со всеми жалобами. Всё. Идите спать. По-двое на койку. Спокойной ночи.
Первые человеческие слова.
Едва взобравшись на койки, мы тотчас же погрузились в тяжелый сон.
На следующее утро "старики" отнеслись к нам без враждебности. Мы сходили умыться. Нам дали новую одежду. Принесли черный кофе.
Около десяти мы освободили блок для уборки. На улице нас пригрело солнце. Настроение заметно улучшилось. Ночной сон явно пошел нам на пользу. Друзья встречались, обменивались впечатлениями. Говорили обо всем, но только не о тех, кто исчез. Все сходились на том, что война близится к концу.
Около полудня нам принесли суп - по миске густой похлебки каждому. Несмотря на мучительный голод, к супу я не притронулся. Я всё еще оставался прежним избалованным ребенком. Отец тут же съел мою порцию.
После обеда мы немного отдохнули в тени блока. Казалось, что эсэсовский офицер, говоривший с нами в том грязном бараке, солгал. Освенцим всё же был похож на санаторий.
Потом нас построили. Трое заключенных принесли стол и медицинские инструменты. Каждый из нас должен был подойти к столу с закатанным левым рукавом. Трое "стариков" с помощью иголок накалывали нам номера на левой руке. Я стал А-7713. С тех пор у меня уже не было другого имени.
В сумерках была перекличка. Возвращались рабочие бригады. У ворот оркестр играл военные марши. Десятки тысяч заключенных шли рядами, в то время как офицеры СС их пересчитывали.
После переклички заключенные из всех блоков разошлись в поисках друзей, родственников, соседей, прибывших с последним транспортом.
Проходили дни. Утром - черный кофе, в полдень - суп. (На третий день я готов был съесть с аппетитом любую похлебку.) В шесть часов - перекличка. Мы с нетерпением ждали удара колокола, означавшего ее конец. Однажды во время переклички я услышал, что кто-то идет между рядами и спрашивает:
- Кто здесь Визель из Сигета?
Разыскивал нас маленький человечек в очках, с морщинистым старческим лицом. Отец сказал:
- Это я Визель из Сигета.
Человечек долго, сощурившись, оглядывал его.
- Вы меня не узнаете?.. Не узнаете... Я ваш родственник, Штейн. Уже забыли? Штейн! Из Антверпена. Муж Рейзел. Ваша жена - ее тетя... Она нам часто писала... и какие письма!..
Отец его не узнал. Должно быть, он и раньше едва его знал, так как всегда был занят делами общины и гораздо меньше знал о делах домашних. Постоянно погруженный в размышления, отец витал мыслями где-то далеко. (Как-то к нам в Сигет приезжала одна родственница. Она гостила у нас и ела с нами за одним столом уже больше двух недель, когда отец вдруг впервые ее заметил.) Нет, он не мог вспомнить Штейна. А я его прекрасно узнал. Я знал его жену Рейзел еще до того, как она уехала в Бельгию.
Он сказал:
- Меня депортировали в 1942-м. Я услышал, что пришел транспорт из ваших мест, и пошел вас искать. Я подумал, что вы, может, что-нибудь знаете о Рейзел и о моих мальчиках, которые остались в Антверпене...
Я ничего о них не знал. С 1940 года мама не получила от них ни одного письма.
Но я солгал:
- Да, мама получала вести от ваших. У Рейзел всё в порядке, у детей тоже.
Он заплакал от радости. Он хотел побыть с нами еще, чтобы узнать подробности, насладиться добрыми вестями, но подошел эсэсовец, и он был вынужден уйти, крича на ходу, что придет завтра.
Удар колокола известил нас, что можно расходиться. Мы пошли получать ужин - хлеб и маргарин. Я был страшно голоден и уничтожил свою порцию прямо на месте. Отец сказал:
- Не надо есть всё сразу. Подумай о завтрашнем дне...
Но, увидев, что его совет запоздал и что от моей порции уже ничего не осталось, он даже не притронулся к своей.
- А я не проголодался, - сказал он.
Мы прожили в Освенциме три недели. Работы у нас не было. Мы много спали - после обеда и ночью.
Мы желали только одного: никуда не двигаться, оставаться здесь и как можно дольше. Это оказалось нетрудно: достаточно было никуда не записываться в качестве квалифицированного рабочего. А чернорабочих оставляли на самый конец.
В начале третьей недели старосту нашего блока сняли, сочтя его чересчур гуманным. Новый староста был свирепый, а его помощники - настоящие звери. Счастливые дни миновали. Мы стали подумывать, не лучше ли будет попасть в список на ближайшее перемещение.
Штейн, наш родственник из Антверпена, продолжал нас навещать и время от времени приносил полпайки хлеба:
- На, это тебе, Элиэзер.
Всякий раз, когда он приходил, по щекам его катились слезы, застывая и твердея. Он часто говорил отцу:
- Следи за сыном. Он очень слабый, истощенный. Следите за собой, чтобы спастись от селекции. Ешьте. Что угодно и когда угодно. Поглощайте всё, что возможно. Слабый здесь долго не протянет.
А сам он был такой худой, такой изможденный и слабый...
- Единственное, что еще привязывает меня к жизни, - часто повторял он, - это мысль о том, что Рейзел и мальчики живы. Если бы не это, я бы уже не выдержал.
Однажды он пришел к нам с сияющим лицом:
- Только что прибыл транспорт из Антверпена. Я завтра к ним пойду. У них наверняка будут новости...
Он ушел.
Нам не суждено было снова его увидеть. Он узнал новости. Настоящие.
Вечерами, улегшись на койки, мы пытались петь какие-нибудь хасидские мелодии, и Акива Друмер надрывал нам души своим низким и глубоким голосом.
Некоторые говорили о Боге, о Его таинственных путях, о грехах еврейского народа и о будущем Избавлении. А я перестал молиться. Как я понимал Иова! Я не отрицал Его существования, но сомневался в Его абсолютной справедливости.