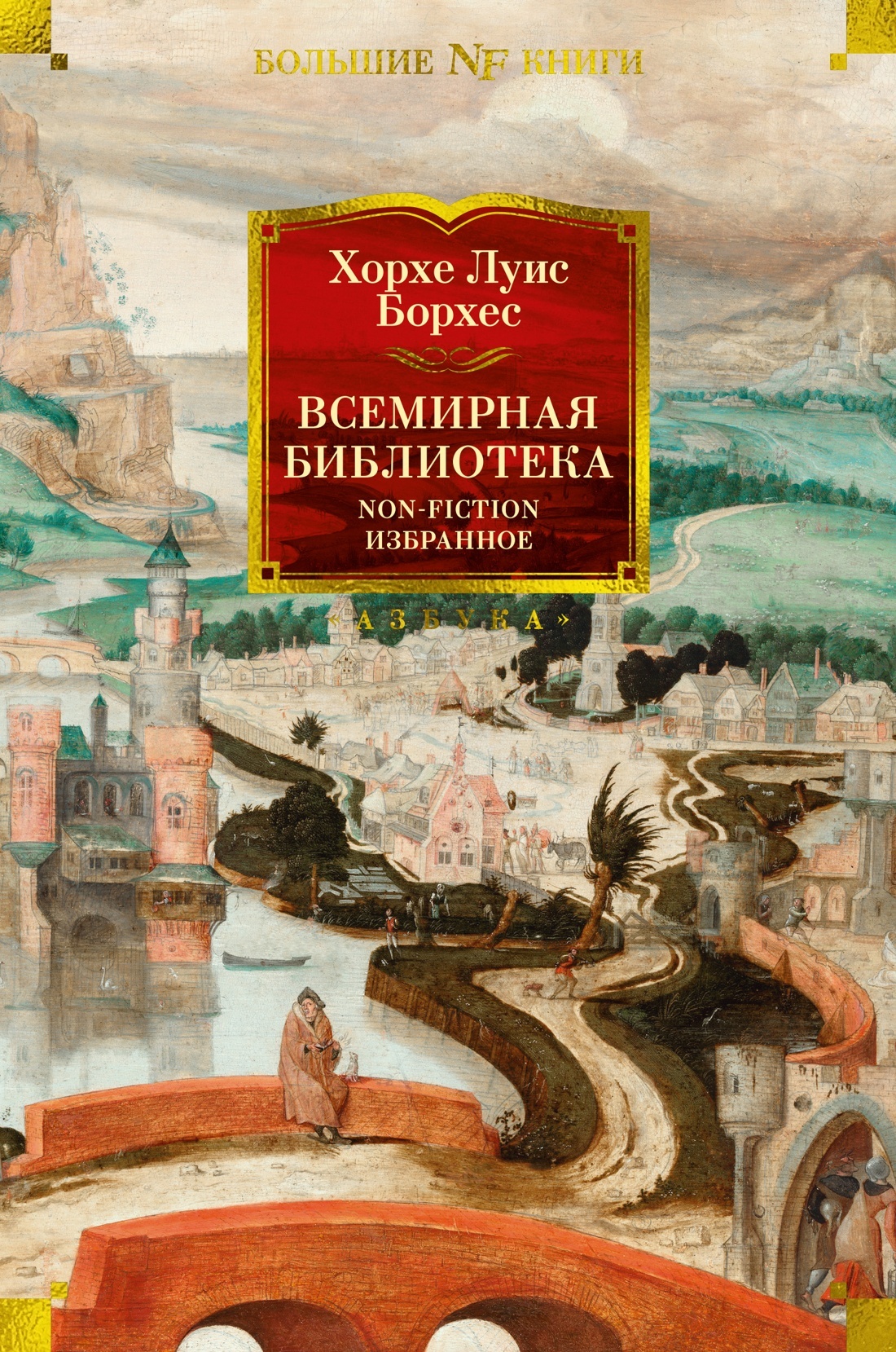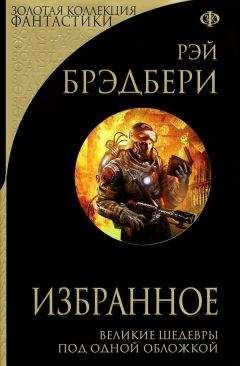(Уголино дантовского «Ада», а не итальянской истории) пожрал тела своих сыновей? И рискнул бы ответить: Данте не хотел, чтобы мы так думали, он хотел, чтобы мы это подозревали [346]. Наши сомнения – часть его замысла. Уголино вгрызается в затылок архиепископа; Уголино снятся острые клыки гончих, рвущих волчьи бока («…е con l’agute scane / Mi parea lor veder fender li fianchi») [347]. Уголино, мучась, кусает себе пальцы; Уголино слышит немыслимое предложение сыновей – насытиться их телом; Уголино, уронив загадочную строку, снова вгрызается в затылок архиепископу. Одно действие за другим наводят на мысль о чудовищном поступке, предвозвещают его. У каждого из них – двойная роль: они – часть рассказа и в то же время предвосхищение будущего.
Роберт Луис Стивенсон («Ethical Studies» [348], 110) замечает, что герои книг – это сплетения слов; к этому, как ни кощунственно, сводятся Ахилл и Пер Гюнт, Робинзон Крузо и Дон Кихот. Но ровно к тому же – и все могучие цари, правившие миром: вереницей слов остался Александр, другой – Аттила. Тогда Уголино – это цепочка слов, растянувшаяся на тридцать терцин. Входит ли в это сплетение образ каннибала? Скажу еще раз: мы вынуждены остаться при этой мысли, ужасаясь и не веря себе. И отвергнуть и признать чудовищное преступление Уголино было бы не так страшно, как догадываться о нем.
Мысль, будто любая книга состоит из слов, выглядит пресной аксиомой. И все-таки каждый уверен, что форма без труда отделяется от содержания и десяти минут беседы с Генри Джеймсом вполне хватит, чтобы уяснить «подлинный» сюжет «Поворота винта». Не думаю; по-моему, Данте знал об Уголино не больше, чем говорят его стихи. Шопенгауэр заявлял, что первый том его главного труда – это единая мысль и способа передать ее короче у него не было. Данте, в свою очередь, сказал бы, что все известное ему об Уголино надо искать в его столь горячо обсуждаемых стихах.
Очутившись перед несколькими возможностями в реальности, в истории, мы выбираем одну, отказываясь от прочих; иное дело – зыбкое время искусства, сходное со временем надежды или забвения. В этом времени Гамлет и умен и безумен разом [349]. Во мраке Голодной Башни Уголино пожирает и вместе с тем не пожирает дорогие тела, и эта колеблющаяся неокончательность, это замешательство и есть та странная материя, из которой он соткан. Таким, погибающим двумя разными смертями, он привиделся Данте и будет видеться бесчисленным поколениям.
1948
Последнее плавание Улисса
Я предлагаю взглянуть еще раз, в свете других фрагментов «Комедии», на таинственный рассказ, который Данте вложил в уста Улисса («Ад», XXVI, 90–142). На фоне руин круга, где несут кару обманщики, Улисс и Диомед вечно горят вместе раздвоенным, рогатым пламенем. По настоянию Вергилия Улисс начинает свое повествование и рассказывает, что, покинув Цирцею после проведенного близ Гаэты года, попадает домой, но ни нежность к сыну, ни почтение, которое он испытывает к Лаэрту, ни любовь Пенелопы не могут победить горящего в его груди стремления изведать мир и все, что дурно и достойно в человеке. На оставшемся корабле, с горсткой преданных ему уже немолодых людей, он пускается в открытое море; они доплывают до пролива, где Геркулес воздвиг свои столпы. В этот момент, который боги отметили честолюбием или отвагой, Улисс обращается к своим товарищам, призывая их посвятить оставшийся малый срок постижению безлюдного мира, неизвестных людей. Он напоминает своим морякам об их происхождении, утверждая, что они созданы не для животной доли, а для доблести и поисков знания. Они плывут на запад, затем на юг и видят все светила Южного полушария. Пять месяцев они бороздят океан и однажды замечают на горизонте темную гору, огромнее, чем когда-нибудь кто-либо из них видел, и сердца их исполняются радости. Но радость тут же сменилась горем, потому что внезапно налетевшая буря трижды переворачивает судно, а на четвертый топит его, как решил Некто, и море смыкается над ними.
Таков рассказ Улисса. Множество комментаторов – от Флорентийского анонима до Рафаэле Андреоли – считают его авторским отступлением. Они полагают, что Улисс и Диомед несут кару как обманщики («е dentro dalla lor fiamma si geme / l’agguato del caval…») [350] и что плавание Улисса не более чем вставной эпизод. Томмазео, напротив, приводит фрагмент из «Civitas Dei» [351] и мог привести еще один из Климента Александрийского, где говорится, что людям запрещено проникать на нижнюю часть земли; впоследствии Казини и Пьетробоно считали это плавание святотатством. В самом деле, гора, которую увидел греческий герой незадолго до того, как был поглощен пучиной, – это священная гора Чистилища, запретная для смертных («Чистилище», I, 130–132). По тонкому замечанию Хуго Фридриха, «плавание оканчивается кораблекрушением, в котором виден не только жребий моряка, но и перст Божий» («Odysseus in der Hölle», Berlin, 1942) [352].
Улисс, рассказывая о плавании, называет его «шальным» (folle), в песни XXVII «Рая» упоминается «varco folle d’Ulisse», «шальной Улиссов путь». То же прилагательное произносит Данте, отвечая на ужасное приглашение Вергилия («temo che la venuta non sia folle») [353], это повторение не случайно. Когда Данте ступает на песчаный берег, тот самый, что различил Улисс перед смертью, он говорит, что никто из плававших по этим водам не сумел вернуться; затем рассказывает, что Вергилий подпоясал его тростником, «com’ Altrui piacque» [354]: теми же словами Улисс говорит о своем страшном конце. Карло Штайнер пишет: «Разве Данте думал не об Улиссе, потерпевшем кораблекрушение в виду этих берегов? Конечно о нем. Но Улисс хотел достичь их, полагаясь на собственные силы, не признавая границ, поставленных возможностям человека. Данте, новый Улисс, ступает на берег как победитель, опоясанный тростником, символом смирения, в нем нет высокомерия, лишь разум, осененный благодатью». Это мнение разделяет Август Рюэгг («Jenseitsvorstellungen vor Dante» [355], II, 114): «Данте – странник, который, подобно Улиссу, движется по нехоженым тропам, посещает миры, запретные для человека, и стремится к самым трудным и дальним целям. Но здесь сходство кончается. Улисс пускается на свой страх в запретные путешествия; Данте повинуется высшим силам».
Это различие подтверждается двумя известными фрагментами «Комедии». Один – тот, где Данте называет себя недостойным увидеть три надмирные обители («io non Enea, io non Paolo sono») [356], а Вергилий рассказывает о миссии, порученной ему Беатриче, другой – тот, в котором Каччагвида («Рай», XVII, 100–142), предок Данте, советует тому обнародовать поэму. В свете этих доказательств невозможно сравнивать паломничество Данте, узревшего блаженные видения и создавшего лучшую из книг, когда-либо написанных человеком, со