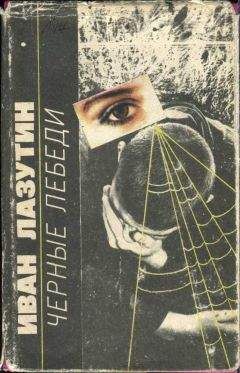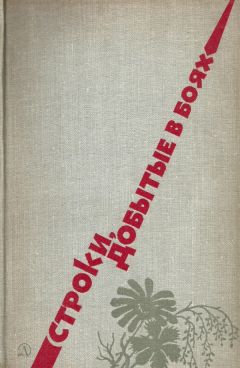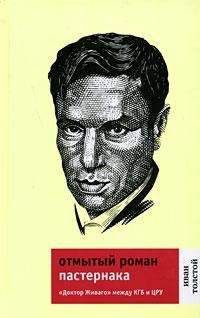— Марфуша!.. Если бы ты знала, от кого письмо! А все, наверное, потому, что ты молишься за меня!
— Господь с тобой! Да в своем ли ты уме? Что это за письмо? Ты словно рехнулась… Уж не надумала ли опять к своему усатому нехристю? У тебя на неделе семь пятниц.
— Какой усатый нехристь, няня! Никуда я больше не поеду!
Подбежав к окну, Лиля распахнула его настежь и, повернувшись к няне, проговорила:
— Слушай, няня! Если и вправду есть Бог и он помогает людям — помолись, когда будешь в церкви, за мое последнее желание.
— Знаешь что, девка, дурачиться-то ты дурачься, да только не богохульничай! Я в твой комсомол не лезу, и ты не лезь в мою веру…
Не успела Марфуша договорить фразы, как в саду зарычал Вулкан. Лиля выглянула в окно.
У калитки стояла Ольга. Она махала рукой и кричала:
— Неужели не слышите?!
Лиля выбежала в сад, загнала Вулкана в конуру и побежала к калитке. Обняв Ольгу, она закружила ее на дорожке сада.
— Какая-нибудь весточка? — спросила Ольга.
— Письмо!..
— От кого?
— Пойдем скорее! У меня столько новостей, что у тебя закружится голова.
С этими словами Лиля увлекла Ольгу в дом. Из-за дымчатых облаков выглянуло солнце. Оно яркими радужными блестками заиграло в крупных каплях воды на узорчатых листьях герани, которую только что полила Марфуша. По ее приметам, этот цветок приносил счастье.
Отражаясь на глади воды, налитой в бочке, лучи солнца неуловимыми золотыми зайчиками прыгали на бревенчатой стене в кабинете деда.
С приездом сына в жизни Богданова много переменилось. До поступления Андрея в военно-морское училище он ему казался мальчишкой, которого нужно, как от огня, оберегать от карманных денег. Раньше Богданову приходилось время от времени читать сыну мораль и напоминать, что отцы его поколения познавали науку жизни, изучая «грамматику боя, язык батарей». Эту строчку из светловской «Гренады» Богданов не раз как веский аргумент приводил в разговоре с Андреем. А однажды он, недовольный тем, что сын получил тройку по математике, пригласил его к себе в кабинет и, наблюдая, как тот переминается с ноги на ногу, завел с ним невеселый разговор. Андрей как-то нехорошо, ехидно улыбнулся и, опустив голову, слушал нудную отцовскую нотацию.
— Что ты ухмыляешься? — спросил Богданов.
— Жду, когда ты дойдешь до «грамматики боя» и «языка батарей».
Богданов вскипел, накричал на сына, но с тех пор больше никогда в разговоре с ним не прибегал к излюбленной поэтической строке.
Это было пять лет назад. Теперь Андрей морской офицер. Ему уже двадцать три года. Два месяца назад он закончил высшее морское училище и был командирован служить на корабль. Как и полагается по окончании училища, он получил отпуск. Но недолго, всего лишь десять дней пришлось ему любоваться Москвой.
«И ведь из-за кого чуть было не погиб? Из-за какой-то легкомысленной, пустой девчонки, которая не стоит его ногтя… — мысленно сокрушался Богданов, припоминая тот страшный вечер, когда ему позвонили из милиции и сообщили, что сын в тяжелом состоянии доставлен в институт Склифосовского. — И этот Шадрин… Лучше, если бы на его месте был кто-то другой…»
Богданов припоминал Шадрина таким, каким он знал его в районной прокуратуре, когда вел следствие по делу директора универмага Анурова. Уже тогда он чувствовал в Шадрине человека, с которым ему не идти одной дорогой. А потом этот инцидент в городской прокуратуре.
«Зря помешал ему в нотариате… Работай он там — пожалуй, не было бы никакого персонального дела за скандал в ресторане», — мысленно рассуждал Богданов и в ожидании сына время от времени посматривал на массивные настольные часы, вмонтированные в витое бронзовое обрамление.
Прошло уже два часа, как Андрей уехал в Сокольники, чтобы встретиться с Шадриным, поблагодарить его и передать приглашение отца зайти к нему на работу.
Богданов прислушивался к каждому хлопку лифта.
«Дьявольская натура… — припоминал Богданов встречу с Шадриным в районном отделении милиции. — Ни один нерв не дрогнул на лице, когда увидел меня. А я… растерялся. Хорошо, что он сразу ушел».
Богданов подошел к окну и, следя за потоками легковых машин, проносившихся внизу, взглядом искал свою, черную, которая должна у табачного киоска повернуть под арку, во двор.
«А что, если поговорить с ним по душам, начистоту? Поймет же он, наконец, что я хочу ему только добра. Тем более после такого случая с Андреем. Неужели мытарства не сбили с него спесь и он все такой же фанатик, каким был два года назад? Неужели неудачи и нужда не сломили в нем упрямство, с которым он будет вечно ходить в синяках и шишках?»
Богданов стоял у окна и уже больше не искал взглядом черную машину, которая должна свернуть под арку. Он думал о Шадрине. Где-то, в какой-то извилине души просыпалось сознание вины перед ним.
«Направлю его следователем к Орлову. Мужик покладистый, молодых любит, характер у него золотой…»
Богданов отошел от окна, услышав, как громко хлопнула дверь лифта. В коридоре раздались два коротких, как точки, звонка. Так звонил только Андрей.
Богданов открыл дверь.
Ростом Андрей, как и отец, высокий. Чтобы не встретиться с сыном взглядом, Богданов смотрел куда-то через плечо Андрея. Уступив сыну дорогу, он молча прошел следом за ним в кабинет. Андрей снял фуражку, положил ее на журнальный столик и, расстегнув верхнюю пуговицу морского кителя, сел в кресло.
Богданов пошутил:
— Никогда не клади фуражку на стол. Плохая примета.
Андрей на шутку не обратил внимания.
— Говорят, деньги не будут водиться, — не дождавшись ответа, сказал Богданов, стараясь по лицу сына понять, какой была у него встреча с Шадриным.
Андрей молчал. Таким сосредоточенно-углубленным в свои мысли Богданов редко видел сына.
— Встретил?
— Встретил.
— Поговорили?
— Да.
Андрей не смотрел в глаза отцу. В душе его шла какая-то внутренняя работа.
— И что же он?
— Благодарит.
— А как у него дела?
— Средней паршивости.
— Где он работает?
— Учителем в школе.
— Ты передал приглашение зайти ко мне?
— Да.
— Что же он?
— Благодарит.
— Придет?
— Нет.
— Почему?
— Этого он не объяснил.
— Ты рассказал ему о моем намерении направить его следователем в прокуратуру?
— Да.
Андрею стало душно. Сняв китель, он повесил его на спинку кресла и только теперь посмотрел на отца. Тот стоял у письменного стола и разрывал на мелкие кусочки белый лист бумаги. Лицо его было напряженным, губы плотно сжаты. Таким он бывал, когда с трудом сдерживал гнев, отчитывая Андрея за проказы, учиненные им в школе.
— Он обрадовался?
— Не заметил этого.
— Что же он ответил?
— Отказался от такой милости.
— Что значит — отказался?!
Удивление, вспыхнувшее в глазах Богданова, сменилось недовольством.
— Очень просто: взял и отказался, — спокойно ответил Андрей, неторопливо затушил сигарету и, подойдя к шкафу, стал рассматривать пестрые корешки книг, словно раньше никогда их не видел.
— А еще что он сказал?
— Ничего не сказал. Но намекнул на такое, над чем тебе следует подумать. Даже мне.
— Подумать? Над чем?
Андрей повернулся к отцу, долго смотрел ему в глаза:
— Над тем, что ты мой отец, а я твой сын, — он посмотрел на часы и стал поспешно надевать китель.
— Ты куда?
— На вокзал за билетом.
— У тебя же на неделю бюллетень…
— Это не имеет значения. Мне завтра нужно быть в Ленинграде.
В дверях Богданов преградил дорогу сыну:
— Он рассказал тебе о наших взаимоотношениях?
— Ни слова не сказал о них.
— Откуда ты обо всем знаешь?
— Мне рассказала мать.
— О чем она тебе рассказала? — почти шепотом произнес Богданов.
— О том, какое слишком горячее участие ты трижды принял в его судьбе. — На слове «слишком» Андрей сделал особое ударение.
— Постой… Постой… Нам нужно поговорить… — Богданов пытался задержать сына, но тот, мягко отстранив его руку, повернул защелку английского замка.
— Я же сказал русским языком: мне завтра нужно обязательно быть в Ленинграде!.. Скажи матери, чтоб собрала вещи.
За Андреем захлопнулась дверь лифта. Богданов долго сидел неподвижно в кресле с закрытыми глазами. Перед ним, как живой, стоял Шадрин. Таким, каким он видел его месяц назад в милиции. Забинтованная голова, бледное лицо, на белой рубашке свежие пятна крови. И взгляд… Взгляд человека, который знает себе цену и уверен в том, что он делает.
Еще летом, сразу после перевода начальника на другую работу, отозвали из Бухареста и Растиславского. В Москве он понял, что все его усилия получить повышение по службе были срублены под корень. Весть о скандале, который устроила ему перед отъездом дочь его бывшего начальника, докатилась и до министерства. А тут еще развод с Лилей выглядел в таком неприглядном свете, что сочувствующих коллег в отделе не оказалось. Кое-кто даже поговаривал, что не мешало бы поглубже да попристальней вглядеться в «моральный облик» Растиславского. Припомнили и старый грешок. Тогда еще молодому, неопытному работнику, да к тому же холостяку, ему простили далеко зашедший «роман» с восемнадцатилетней секретаршей управления. Он покаялся, а девушку пришлось уволить.