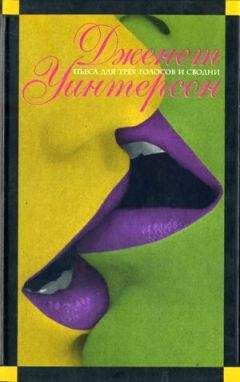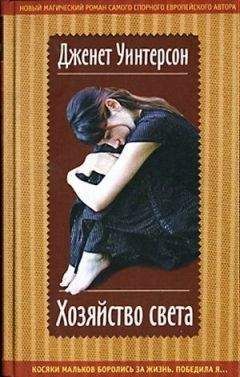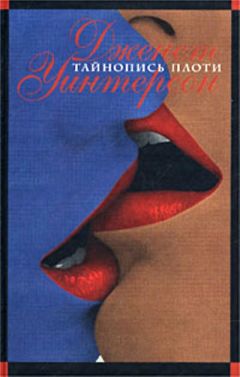- Но у меня же нет никакого заболевания.
Она открыла дверь.
- Трех месяцев будет вполне достаточно.
Достаточно для чего? Мой путь по больничному коридору пролегал мимо табличек: "Хирургия", "Мать и дитя", "Амбулаторные больные". Характерно, что отделение дурных болезней расположено так, что страждущим добраться до него непросто. Плутая по хитрым лабиринтам, несчастный грешник должен по крайней мере раз пять спросить, где оно находится. Мои попытки понизить голос во время расспросов, особенно в непосредственной близости от "Матери и дитяти", не производили на персонал ни малейшего впечатления.
- Венерические болезни? - прогремел у меня над ухом медбрат, остановив тележку с грязными простынями в аккурат на моей ноге. - До конца коридора направо, налево, прямо через вход позади лифта, вверх по ступенькам, вдоль по коридору, завернуть за угол, через вращающуюся дверь, и вы будете на месте...
- Вы сказали ВЕНЕРИЧЕСКИЕ? - Да, именно так было сказано, и пришлось повторить это еще раз молодому доктору из амбулатории, легкомысленно крутившему в руках стетоскоп. - Как пройти? Никаких проблем! Отсюда пять минут на носилках. Самый прямой путь - через крематорий.
Он расплылся в улыбке, как подтаявшее мороженое, и махнул в сторону дымящей трубы.
- Счастливого пути!
Может, все дело в моем лице. Наверное, сегодня оно напоминает половую тряпку. А я себя чувствую так, точно ее к тому же выжали.
На обратном пути мне пришло в голову купить себе огромный букет цветов.
- Идете в гости? - Голос девушки-продавщицы изогнулся вверх, точно пола больничного халата. Ей было смертельно скучно от того, что приходится быть любезной в этой щели между папоротниками, да еще с мокрыми руками, с которых капает зеленая вода.
- Да, к себе. Хочу выяснить, все ли у меня дома.
Она подняла брови и пропищала:
- С вами все в порядке?
- Должно быть. - Красная гвоздика перекочевала из моего букета в ее мокрые руки.
Вечер. Цветы поставлены в вазу, постелены чистые простыни, свет погашен. "Что ж, значит, от Вирсавии мне достался только ровный ряд починенных зубов".
- Чтобы лучше было кушать, - сказал Волк.
Самое лучшее - взять баллончик с краской и написать на двери: "САМОУВАЖЕНИЕ".
И пусть Купидон только попробует сунуться.
Когда я прихожу, Луиза завтракает. На ней великолепно свободный халатик в гвардейскую красно-зеленую полоску. Распущенные волосы мягко окутывают шею и плечи, ниспадая на скатерть и поблескивая в тонких лучиках света. В Луизе всегда чувствовалось что-то электризующее, напряженное и опасное. Ровный свет, горевший в ней, питался, как я подозреваю, более невесомыми токами. На первый взгляд, она казалась спокойной, но за этим внешним покоем дремала мощная разрушительная сила, которая заставляла меня нервничать каждый раз, когда приходилось переступать порог ее дома. Она больше - викторианская героиня, чем современная женщина. В ней что-то от героини готического романа полновластной повелительницы замка, которая способна вдруг поджечь его и скрыться в ночи с одним узелком в руках. Мне всегда казалось, что она должна носить на поясе связку ключей. Ее собранность и деловитость напоминали мне дремлющий, но отнюдь не потухший вулкан. Иногда мне приходило в голову, что если Луиза вулкан, то я могу оказаться Помпеями.
Я не вхожу в дом сразу, а, спрятавшись снаружи, наблюдаю, подняв воротник. Мелькает мысль, что если она вызовет полицию, то я только того и заслуживаю. Но полицию она не вызвала. Взяла свой револьвер с перламутровой инкрустацией на рукоятке из стеклянной вазы и поразила меня выстрелом прямо в сердце. При вскрытии обнаружили расширившееся сердце и тонкие кишки.
Белая скатерть, коричневый заварник. Хромированный тостер и ножи с серебряными лезвиями. Обычные вещи. Я смотрю, как она берет их и ставит на место, быстро вытирая руки о краешек скатерти, - на людях она так никогда не делает. Она ела яйцо, на ее тарелке скорлупа, а вот сейчас она слизывает масло с кончика ножа. Все, доела и ушла в ванную, кухня опустела. Без Луизы кухня выглядит глупо.
В дом проникнуть легко - дверь не заперта. Я чувствую себя как вор, что собирает в мешок взгляды украдкой. Такое странное чувство - находиться в чужой комнате, когда там никого нет. Особенно, когда любишь этого человека. Каждая вещь получает особое значение. Почему она купила это? Что ей вообще нравится? Почему ей лучше сидеть на этом стуле, а не на том? Комната представляется шифром, который надо разгадать за несколько отведенных минут. Как только она вернется, все внимание будет приковано к ней, а кроме того, на обстановку пялиться неприлично. Мне безумно хотелось выдвинуть все ящики и провести пальцем по всем пыльным рамам картин. Вдруг я смогу найти ключ к твоей тайне в кладовой, или в мусорной корзине? Тогда я сумею разгадать тебя, распутать нити, пропустить их между пальцами, чтобы измерить всю твою душу. Меня одолело смешное и нестерпимое желание стащить что-то из твоей комнаты. Поверь, у меня вовсе не было намерения воровать твои ложки, хотя они очаровательны, с эдвардианским сапожком на ручке. Почему же я все-таки сую их к себе в карман? "Немедленно положи на место", - строго говорит наставница-совесть. Я принуждаю себя вернуть их в ящик, хотя когда дело доходит до чайной ложечки, приходится выдержать серьезную внутреннюю борьбу. Присев, я пытаюсь сосредоточиться. Прямо перед моими глазами оказывается корзина с бельем для стирки. Нет, только не грязное белье... пожалуйста!
Я не отношусь к тем, кто любит нюхать испачканное белье. Мне никогда не приходилось тайком запихивать во внутренние карманы ничьи трусики. У меня такие знакомые имелись, и меня приводила в восхищение их ловкость. Как они умудряются спокойно сидеть на заседании, засунув в один карман свой белоснежный носовой платок, а в другой - чьи-то панталончики? Разве можно точно знать, что не перепутаешь, что где? Я завороженно смотрю на корзину для белья, как неудачливый заклинатель змей.
Не успеваю я подняться, как в дверях возникает Луиза. Волосы после душа зачесаны наверх и скреплены черепаховой заколкой. От нее исходит приятный лесной аромат мыла. Лицо ее светится любовью. Она протягивает ко мне руки, и я медленно целую ее пальцы, стараясь запомнить каждый сустав. Я жажду не только ее плоти, я хочу ее кости, кровь, сухожилия, ткани - все из чего она состоит. Я хочу держать ее в объятиях тысячу лет, даже тогда, когда от времени истлеют оттенки и текстура ее кожи, а скелет рассыплется в прах. Кто ты, что заставляешь меня испытывать такие чувства? Кто ты такая, для кого время не имеет значения?
Ощущая жар ее объятий, я думаю: "Костер твоих ладоней согреет меня лучше солнца". Мне здесь тепло, уютно, меня кормят, обо мне заботятся. И я буду слышать биение этого пульса отчетливее любых других ритмов. Мир может появиться и исчезнуть в потоке дней, но я здесь, и мое будущее в твоих ладонях.
Она сказала:
- Поднимайся наверх.
Друг за другом мы поднялись на второй этаж, где размещалось что-то вроде студии, а потом еще выше, там ступеньки были уже, а комнаты меньше. Казалось, этому дому не будет конца, и скрипучие дрожащие ступени выведут нас куда-то наружу, за стены. Они привели нас в залитую светом мансарду в башенке. В высоких окнах царило небо, пролетавшие птицы царапали крыльями стекло. Маленькая кровать была застелена лоскутным одеялом. Пол был покатый, в одном месте раной зияла отставшая половица. Неровные хлипкие стены казались живыми, были влажными на ощупь и дрожали при прикосновении. Потоки света, лившегося сквозь разреженный воздух, нагрели створки оконных рам так, что дотронуться было невозможно. Мы чудесным образом выросли в этом маленьком помещении: ты и я могли свободно дотянуться до любого места, от пола до потолка, коснуться любой стенки нашего любовного гнезда. Ты поцеловала меня, и мои губы коснулись аромата твоей кожи.
И что потом? Все, что ты так недавно надела на себя, стало бессознательной грудой на полу, и неожиданно обнаружилось, что ты носишь нижнюю юбку. Луиза, твое тело было само совершенство. Смогу ли я, еще не познав до конца даже кончиков твоих пальцев, смогу ли я познать в совершенстве эту страну? Интересно, Колумб тоже испытывал такое при виде Америки? Я не мечтаю тобою овладеть, это ты овладела моими мечтами.
Много времени спустя с улицы донесся шум - дети возвращались из школы. Их высокие звонкие голоса проходили через нижние комнаты и, смягчаясь, преображенные, достигали нашего Приюта Славы. Возможно, мы очутились на той самой крыше мира, где побывал Чосер со своим орлом. Возможно, натиск и давление жизни кончались здесь, и голоса мягко обвивались вокруг стропил тысячекратно шелестящим эхом. Энергия не может исчезнуть, она может только преобразоваться, но куда уходят слова?
- Луиза, я люблю тебя!
Она нежно прикрыла мне рот ладонью и покачала головой.