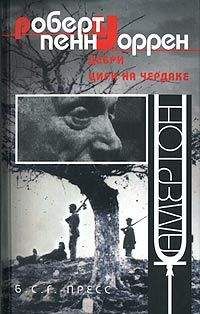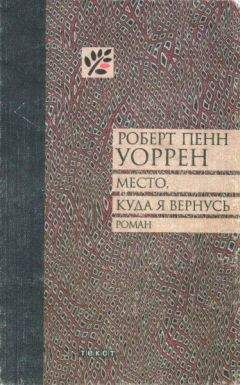Так прошло две недели.
Вечером после сеанса он вернулся домой и зашел в комнату к матери, чтобы дать ей лекарство. Войдя, он увидел, что она отбросила подушки и сидит, опираясь на жесткую спинку кровати, пристально глядя на него.
- Мама... - встревожился он. - Мама, тебе плохо?
- Да, - ответила она, - мне плохо. От того, что я узнала.
- Я позову доктора Джордана. Почему ты не послала за ним Мэрибеллу? Я по...
Она прервала его резким жестом.
- Иди сюда, - приказала она.
А когда он стал в ногах кровати:
- Ближе.
Он зашел со стороны заставленного пузырьками столика.
- Где ты был? - спросила она.
- В кинотеатре, - сказал он.
- Да, - эхом откликнулась она, - в кинотеатре.
Он замер, едва сдерживая безумный порыв броситься вон из комнаты, из дома.
- В кинотеатре, - прошептала она.
И снова шепотом:
- Бессовестный. Лгать мне. Ходить туда тайком от меня. Тайком от собственной матери, которая дала тебе жизнь. Вскормила тебя грудью. Как тебе не стыдно!
- Мама... - заикнулся он.
- Опозорить меня. Ты, мой сын, - и какой-то вульгарный билетер. Да твой отец в гробу бы перевернулся. Билетер.
- Но мне же надо хоть что-нибудь делать, - вырвалось у него. - Мне тридцать три года. Надо чем-нибудь заниматься.
- Но не этим же. Зачем лгать и хитрить? У тебя есть занятие. Твоя книга. Допиши книгу. И тогда я буду гордиться тобой.
- Хорошо, - сказал он, - я допишу книгу.
- Обещай мне, - произнесла она, не сводя с него глаз, - что ты туда больше не пойдешь. Не станешь меня позорить. Дашь мне спокойно дожить свой век и не будешь плевать в меня, несущую свой крест. Не будешь мне на голову возлагать терние.
Он молчал.
- Обещай мне, - сказала она, опять перейдя на шепот.
- Обещаю, - тоже шепотом отозвался он.
- Подойди ближе. Дай мне руку.
Она взяла протянутую руку и потянула вниз. Он опустился на колени.
- Сын мой, - произнесла она, положив руку ему на голову. Рука была легкая, как перышко, но его голова склонилась под ней до самой кровати. Мать тихонько гладила его по голове и играла волосами; когда она касалась лысины, он ощущал холод ее пальцев.
Наконец она сказала:
- Ты прав, сынок. Тебе нужно чем-нибудь заниматься. Я откажусь от услуг мистера Доррити. Мои дела будешь вести ты. И когда я отправлюсь к Другому Берегу, ты будешь к этому готов. Я стану тебе платить. Хорошо платить. Ты будешь вести мои дела. И писать книгу. Тогда я умру счастливой. Я буду гордиться, что ты мой сын.
Голос звучал и звучал, и пальцы играли волосами.
На следующий день он вернулся к своей книге, кипам заметок и страницам рукописи, исписанным неровным, широким мальчишеским почерком, к истории округа Каррадерс - округа, где находился Бардсвилл и где июньским вечером, много-много лет назад, Лем Лавхарт лежал на холме, слушал вечерние птичьи трели и плакал. Но Болтон Лавхарт этого не знал, и в главу, посвященную основанию города, - "Пришествие отцов" - этот эпизод, разумеется, не вошел.
Он не мог работать у себя в комнате. Ничего не выходило. И он перенес стол на чердак.
В ту зиму, сразу после Рождества, он начал делать цирк. Как-то в середине декабря он шел по делам в банк к мистеру Доррити и, проходя по площади, увидел в скобяной лавке Селларса выставку игрушек. Он застыл у витрины. В центре ее, выделяясь из всей композиции, помещался цирк. Разноцветные деревянные звери с лапами на шарнирах. Львы и тигры на маленьких платформах. Слон, взгромоздившийся на тумбу. Кроме них имелись шпрехшталмейстер в черном костюме, девочка-акробатка в стоячей юбочке, с широкой, во весь рот, нарисованной улыбкой и неправдоподобно большими голубыми глазами, и клоун в пятнистом балахоне, балансирующий на вершине лестницы, упасть с которой ему не давала щель в деревянном башмаке. Наконец Болтон оторвался от витрины и направился в Плантерс Фиделити Банк к мистеру Доррити, на дружеские плечи которого с тех пор, как Болтон Лавхарт стал принимать участие в делах, лег двойной груз забот. Теперь мистеру Доррити приходилось ежемесячно уделять ему массу времени.
В тот же день Болтон Лавхарт раздобыл на лесном складе мягкую сосну, купил большой складной нож и набор акварельных красок. Сложил покупки на полку на чердаке и десять дней их не трогал. Он работал над книгой. Но дерево, краски и нож были тут. На следующий день после Рождества, поздно вечером, дав матери лекарство и поцеловав ее на ночь, он выждал какое-то время и в бескрайнем безмолвии ночи наконец приступил.
На тигра ушла неделя. Он получился нелепым, с негнущимися лапами, тупоголовым, почти даже и не тигр. Болтон попробовал раскрасить его, но обнаружил, что дерево впитывает акварельные краски, как промокашка, и контуры размываются. Нужны были масляные краски. Пришлось заказать их в Нашвилле. Он еле дождался, когда придет посылка. И тут чернокожая служанка Мэрибелла вручила ее матери. Пришлось лгать. Сказал, что будет рисовать карту округа Каррадерс. Он солгал с легким сердцем, сам себе удивляясь.
Тигр был жалок, но, раскрасив его и поставив на стол, Болтон на какой-то миг ощутил трепетный отголосок чувства, испытанного очень давно, в ту ночь, когда он стоял в тени и смотрел, как в огненной, первобытной кутерьме грузились цирковые люди.
Следующий зверь, лев, получился гораздо лучше. А слон вышел вообще хорош. После двух недель поисков и труда Болтону удалось-таки заставить лапы гнуться. К лету он сделал человеческую фигуру, шпрехшталмейстера, и одел его, исколов иглой непривычные к шитью пальцы. Он даже приклеил ему свирепые черные усы из обрывков черной пряжи. Потом смастерил голубоглазую девочку-акробатку в шелковой юбочке. Это был его шедевр.
Однако все остальные рядом с этим шедевром казались грустными и нелепыми. И он начал сначала. Ночь за ночью, лето напролет, на жарком, душном чердаке он склонялся над столом, орошая потом дерево, ткань, металл. Купленный вентилятор не спасал. Но внизу он не мог работать. Ведь никому было невдомек, что происходит там, за постоянно запертой дверью, в большой комнате, где в углах густеют тени и паутина и свисают с покатого, в разводах сырости потолка, где на прогнувшихся полках аккуратными рядами расположились альбомы с марками и наконечники, давно отмытые от чьей-то горячей крови, где стол завален заметками и книгами, где высоко на торцовой стене висят сабля и полинявшее знамя бывшего полка Саймона Лавхарта. Возвращаясь поздно вечером домой, люди видели свет на чердаке Лавхартов, слабый огонек, пробивающийся сквозь густые ветви дубов, и говорили:
- Это молодой Лавхарт пишет свою книгу. Работящий. Может, из него и выйдет толк.
Болтон Лавхарт действительно работал над книгой. По крайней мере, перечитывал груды заметок, делал новые, порой даже исписывал страницу-другую своим мальчишеским почерком. В то время памятник Кассиусу Перкинсу и Сэту Сайксу еще не поставили, но Болтон дотошно расспросил стариков, и те сообщили ему обрывки официальной версии. И он написал главу "Битва за Бардсвилл". Но писать быстро не получалось. Гораздо легче было собирать материал. Иногда он целыми днями просиживал в суде, перебирая пыльные, кисло пахнущие бумаги в архиве у секретарей выездного или окружного суда. Или нанимал на конюшне упряжку и ехал за город побеседовать с кем-нибудь из старожилов. Но все это днем. Ночи принадлежали только ему.
Месяцы складывались в год, год плавно переходил в следующий, и его пальцы становились все послушнее. А с мастерством пришла мучительная жажда совершенства. Когда он заканчивал новую фигурку и присоединял ее к небольшой орде, заполонившей пол и полки, или придумывал новый гимнастический снаряд для цирка, он на краткий миг ощущал, воспаряя над землей, покой и ясность духа, наступающие при соразмерности замысла и воплощения. На следующий день он вскакивал пораньше, шел на чердак, чтобы утвердиться в счастье минувшей ночи, но беспощадный дневной свет обнаруживал какой-нибудь изъян, убогость, что ли, - и он почти ненавидел свое создание, и пальцы кололо от желания вновь ощутить холодную твердость ножа или шила, податливость дерева. Он едва дожидался ночи.
Шли годы, вокруг него скапливалось все больше рисованных глаз: звери, девочки-акробатки, наездники, шпрехшталмейстеры, клоуны - и постепенно его мир ограничился этой сферой. Он по-прежнему, правда все реже и реже, выступал с сообщениями в научном клубе, а бардсвилльская "Гэзет" по-прежнему каждый раз отмечала: "Мистер Болтон Лавхарт, один из наших многообещающих молодых авторов..." Он по-прежнему работал над книгой, но слова, написанные на бумаге, равно как и произносимые в клубе, все больше казались ему чужими, все больше походили на епитимью, наложенную за давнее прегрешение, или на плату за новое счастье. По воскресеньям он ходил в церковь. Вел дела матери, писал расписки в получении арендных взносов, нанимал, все реже и реже, маляров и водопроводчиков для ремонта домиков, которые мать сдавала внаем, платил налоги, подбивал счета.