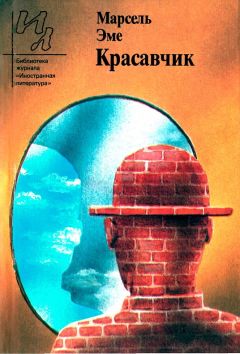- Умора! Бедняжка Рене будет упиваться тем, что очутилась в объятиях кого бы вы думали? - собственного муженька! Ой, не могу!
Он совсем разошелся, и я тщетно пытался укротить его веселье. Я уже почти кричал, но он хохотал так громко, что ничего не слышал. Мы подняли страшный шум и, должно быть, распугали всех лебедей на озере - все это не сулило ничего хорошего. На асфальте, слева от дядиной машины, показались неяркие отсветы. Я пихнул дядюшку Антонена в бок, но было уже поздно. Двое полицейских на велосипедах, привлеченные гамом и диковинным видом автомобиля, приближались к нам.
- У вас не включены подфарники, - заметил один из них почти отеческим тоном.
- Смотри-ка, и правда, - признал дядя. - Когда я остановился, было еще довольно светло.
Упущение было исправлено, и полицейские, может, и убрались бы восвояси, но тут дядюшка, вспомнив о племяннице, снова разразился хохотом - прямо в лицо тому из них, что все еще стоял склонившись к дверце.
- Покажите ваши права, - сухо потребовал тот.
- Пожалуйста, - вызывающе ироническим тоном ответил дядя и сунул руку во внутренний карман пиджака. Не найдя там искомого, он проверил другой карман, потом, чертыхаясь сквозь зубы, вернулся к первому. Меня охватило предчувствие катастрофы. Похоже, дядюшка в очередной раз забыл права и карточку владельца. Сейчас нас пригласят в участок, а там спросят документы заодно и у меня - будет просто чудом, если дядюшка Антонен не ляпнет чего-нибудь такого, что навлечет на меня подозрения полиции. Кой черт дернул меня довериться дяде! Я уже видел плачевный финал своего приключения. Дядя тем временем добрался до заднего кармана брюк и уже довольно громко сетовал на то, что "проклятые права куда-то запропастились".
- Ну что, никак не найдете свои права? - вкрадчиво осведомился полицейский.
Невообразимо скрючившись на сиденье, чтобы дотянуться до кармана на ягодице, дядюшка Антонен пыхтел и потел, силясь расстегнуть непокорную пуговицу. Услышав издевательский вопрос, он распрямился и, испепеляя нахала взглядом, прорычал:
- Права? Да я на эти права...
Он осекся. Я уже готовился распахнуть дверцу и бежать в заросли, но тут дядино лицо озарилось широкой улыбкой. Доставая из заднего кармана корочки, он небрежным тоном продолжал:
- Права? Держите, вот они, мои права. Изучив документ, полицейский записал нарушение и объявил:
- Вы получаете предупреждение за то, что не включили подфарники в темное время суток.
Дядюшка снова издал рычание. Пинком в ногу я заставил его замолчать и, когда полицейские наконец укатили на своих велосипедах, в свою очередь заорал:
- Вы что, нарочно? Задались целью привлечь ко мне внимание? Решили меня погубить? Господи, если б я знал! Ладно, отвезите меня на площадь Звезды, и на сегодня хватит.
Страшно сконфуженный, дядюшка тронулся в путь. Время от времени он поглядывал на меня с боязливым смущением, но я хранил свирепый вид. Наконец он робко предложил подвезти меня до дому.
- Чтобы в довершение всего Рене или дети увидели, как я выхожу из вашей машины? Нет уж, благодарю покорно.
Все же я позволил ему доставить меня в конец улицы Коленкура. По дороге он спросил, когда мы увидимся.
- Сегодня у меня неудачный день, - признал он. - Не везет, и все тут. Но это ничего. Вот увидишь, у меня еще появятся замечательные идеи.
- В таком случае подождите, пока я объявлюсь, и посвятите в них меня. Я вам позвоню. И не забудьте, что отныне меня зовут Ролан Сорель.
Напоследок он спросил, не нужно ли мне денег:
- Ты только скажи.
Распрощавшись с ним, я пошел по улице Коленкура. Она настолько узкая, что на ней сумеречно даже днем. Прохожие возникают в круге света под фонарем, затем проваливаются во мрак преисподней и вновь оживают под следующим фонарным столбом. Окружающее казалось мне сном. Свет на улице был точь-в-точь как во сне, не дневной и не электрический, а какой-то неестественный, будто смотришь сквозь закопченное стекло. Остро ощущая свое ничтожество, я шагал и шагал меж двух бесконечных извилистых стен, и то место, где они в перспективе сходились, все отодвигалось и оставалось таким же непостижимым, как и в начале, - безнадежная эта погоня тоже напоминала кошмар. Да и само мое немыслимое превращение разве не служит доказательством, что все происходящее я вижу во сне? Вот сейчас я протяну руку, коснусь теплого плеча Рене и проснусь наконец в своей постели, освобожденный от гнетущей тревоги. Однако голод давал о себе знать, и я обрадовался при виде вывески Маньера.
Войдя в длинный узкий зал, я был несколько ошеломлен бурлившей там жизнью и поначалу не мог различить отдельные лица, а лишь группки за столиками, из которых пять или шесть были заняты. Я сел за первый попавшийся, пробежал глазами меню и, подперев голову руками, стал представлять себе, как Рене с детьми ужинают сейчас в нескольких сотнях метров отсюда, обсуждая мой отъезд в Бухарест. Лишь когда подали закуски, я огляделся. Рядом ужинает чета иностранцев: обоим лет по пятьдесят, оба в спортивных костюмах - судя по покрою, из Центральной Европы. За столиками я узнал кое-кого из жителей квартала. Вот на своем обычном месте сидит художник Шазор и по-приятельски терзает одного из своих сотрапезников невинными с виду вопроса- ми, скрытую иронию которых его жертве не так-то легко уловить. По соседству азартно толкуют о наездах и приемах монтажа киношники. А чуть поодаль, рядом с другой молодой женщиной, сидит Сарацинка и смотрит на меня. За ее столиком спиной ко мне восседает какой-то плешивый толстяк. Я остановил на них притворно рассеянный, словно отсутствующий взгляд. И некоторое время созерцал Сарацинку, делая вид, будто не только не замечаю, куда она смотрит, но и вообще не вижу ее, погруженный в свои размышления. Выступающие скулы и четко очерченный профиль придавали ее округлому лицу некоторую жесткость и мужественность, что еще более подчеркивалось прической: парой симметричных высоко подвернутых валиков иссиня-черного цвета. Черные глаза, лишенные бархатистой мягкости, сверкали сухим антрацитовым блеском. Тяжелый шелк лифа льнул к высокой тугой груди. Вырез ее платья, должно быть, открывал толстяку напротив недурное зрелище. Она ела, разговаривала и неотрывно смотрела на меня. Даже поворачиваясь время от времени к соседке, она умудрялась держать меня в поле зрения. Наконец я решился ответить на ее взгляд. Глаза ее заблестели ярче, и я почувствовал себя в сладостном плену. Увидев, что я покраснел, она чуть улыбнулась и тоже слегка порозовела, но вовсе не от смущения. Вокруг уже начали обращать внимание на наш немой диалог. Я опомнился и, уткнувшись носом в тарелку, принялся сурово себя отчитывать. Рене, дети, модальные устои. Не следует забываться и усложнять и без того драматическое положение. Но как трудно прогнать мысль, что сегодня вечером я свободен и никто не потребует отчета в том, как я провел время. Сама добродетельность моей жены - повод поддаться искушению. Ведь чтобы сломить ее сопротивление, надо, хочешь не хочешь, овладеть приемами обольстителя. Все же я терзался жестокими сомнениями, и верный, послушный супруг начинал брать во мне верх. Еще раз, сам того не желая - во всяком случае, так мне казалось, - я встретился глазами с Сарацинкой, но тут же перевел взгляд на затылок мужчины, ужинавшего за ее столом, и принялся настойчиво, вызывающе рассматривать его. Он, наверное, богат - об этом говорит глянец его седых волос и розовая, как у англичанина, ухоженная кожа. Этакий достопочтенный господин, имеющий достаточно средств, чтобы содержать хорошенькую любовницу. Мне показалось, что Сарацинка досадливо повела плечом, будто догадавшись о моих мыслях. Весьма удовлетворенный этим, я, избегая ее взгляда, снова уткнулся в тарелку, затем развернул газету. Вскоре я почти забыл о существовании Сарацинки. Когда мне принесли камамбер, ее соседи поднялись из-за стола. Сама же она не сдвинулась с места - при этом сердце у меня екнуло - и закурила сигарету.
- Так вы действительно не поедете в театр? - спросил ее плешивый.
Она извинилась, сославшись на мигрень. Те двое наклонились над столиком и, очевидно, отпустили какие-то шутливые замечания, которых я не расслышал. Она посмеялась вместе с ними - громче, чем они, - и осталась сидеть. Проводив их взглядом до двери и оказавшись в одиночестве, она запрокинула голову и, глядя на меня сквозь прищуренные ресницы, пустила в мою сторону струйку дыма, которая растаяла в воздухе как раз над моим камамбером. Как я уже говорил, я не привык к тому, чтобы женщины добивались моего внимания, так что призыв этот пронзил меня, словно током. Мой взгляд скользил по ней от ног и выше, пока не встретился с антрацитовыми глазами. Как только я разделался с ужином, она вышла.
Вышел и я и сразу увидел ее: она не спеша шла по улице Коленкура, по самой кромке тротуара, в тени деревьев. Догнав ее, я неуклюже извинился, сказал, что впервые в жизни - и это была сущая правда - заговариваю с женщиной без ее разрешения.