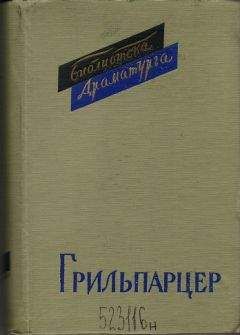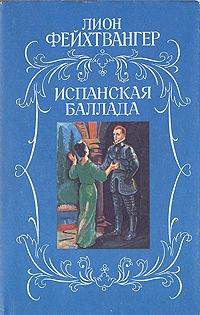Альфонсо с удивлением заметил, что наглость барона де Кастро не вызвала в нем гнева. Де Кастро ни словом не упомянул о двусмысленном поручении доньи Леонор, он не возлагал вины на даму, он сам держал ответ за все, что случилось. "Ишь ты, Гутьере-то, оказывается, рыцарь", - подумал Альфонсо.
Обычно неутомимый, деятельный, каноник дон Родриго нехотя занимался теперь своими обязанностями, редко читал и писал. Грустно, сиротливо сидел он где-нибудь в углу.
Муса не часто беседовал с ним. В Толедо было много раненых и больных, спокойная решительность Мусы внушала доверие, и, несмотря на злобу против мусульман, многие обращались к его прославленному искусству.
Родриго завидовал другу, которого отвлекала от мучительных дум непрестанная деятельность; его самого все сильней одолевали печальные размышления о бренности всего сущего, он был внутренне скован.
Из Италии ему прислали рукопись, которая в словах выражала его собственное отчаяние. Написана она была молодым прелатом Лотарио Конти и называлась:
"О свойствах человека". Одно место произвело на него особенно сильное впечатление: "Как ничтожен ты, о человек! Как мерзостно твое тело. Посмотри на растения и деревья. Они порождают цветы, листья и плоды. Горе тебе, ты порождаешь вшей, червей и прочую нечисть. Они выделяют масло, вино, бальзам; ты выделяешь мочу, харкотину, кал. Они испаряют благоухание; ты смердишь". Родриго не мог отделаться от этих слов, они преследовали его даже во сне.
Он не жаждал уже того умиленного экстаза, в котором прежде искал прибежища в минуты отчаяния. Та ревностная, непоколебимая вера теперь казалась ему не благодатью, а дешевым самоопьянением, трусливым бегством от действительности.
Отраду приносили ему только редкие посещения дона Вениамина. Юноша, невзирая на собственное горе и на горе окружающих, упорно и терпеливо продолжал работу в академии. Каноника поражала сила воли Вениамина, его посещения прогоняли жгучую тоску.
Однажды он попросил своего ученика:
- Если это не растравит твою рану, расскажи мне, что вы делали и о чем говорили, когда ты в последний раз был в Галиане.
Вениамин молчал. Молчал долго, дон Родриго уже думал, что он не ответит. Но затем юноша в горячих словах стал восхищаться доньей Ракель, как прекрасна была она в этот последний день. И он откровенно рассказал, что она только потому не захотела укрыться за стенами иудерии, что король повелел ей ждать его в Галиане. В его словах звучало недовольство той страстной преданностью, с которой она верила в своего рыцаря и возлюбленного.
Каноник был потрясен. "Ты не знаешь, что такое любовь", - сказал ему король. Но он сам этого не знал. Альфонсо "любил" Ракель бурно, сильно, неистово, но он остался замкнут в себе, он не чувствовал согласно с ней. И вот этот злосчастный человек, этот рыцарь до мозга костей бросил необдуманное слово; вероятно, едва сказав, он уже забыл о нем, и это случайное слово толкнуло донью Ракель в объятия смерти. Его легкомысленная отвага всегда приводит к беде.
Дня два-три спустя несколько смущенный Вениамин показал канонику рисунок. Он как-то видел короля вблизи, был поражен переменой в нем. Желая вникнуть в эту перемену, он нарисовал короля и теперь, робея, показал портрет канонику, с нетерпением ожидая, что тот скажет.
Тот долго его рассматривал. Перед ним было лицо человека, который много пережил и много выстрадал, но все же это было лицо рыцаря, лицо необузданного, более того, твердого и жестокого человека. Он подумал о портрете короля, нарисованном словами в его летописи, он подумал об изображении короля, вычеканенном на Иегудиных золотых монетах. Он отложил рисунок. Принялся шагать из угла в угол. Снова взял портрет и стал рассматривать. И сказал, необычно взволнованный:
- Так, значит, вот какой король Альфонсо Кастильский!
Вениамин был поражен действием, которое оказал его рисунок.
- Я не знаю, таков ли Альфонсо. В моем представлении он именно такой. - И, помолчав, прибавил: - Теперь я думаю, что лучше было бы жить, если бы миром управляли мудрецы, а не воины.
Каноник попросил его оставить ему рисунок и долго, после того как ушел Вениамин, задумчиво его разглядывал.
Его дружба с Вениамином все крепла. Он так сблизился с ним, что даже не скрыл от него собственного малодушия.
- Несмотря на молодость, ты уже не раз видел, - сказал он, - как глупость и необузданный гнев все снова и снова сметают то, что создавали столетиями знания и труд. И все-таки ты продолжаешь думать, искать, мучиться. Тебе все еще кажется, что стоит трудиться? Кому нужен твой труд?
Лицо Вениамина светилось тем веселым лукавством, от которого прежде оно становилось таким молодым и обаятельным.
- Ты хочешь испытать меня, досточтимый отец, - сказал он, - но ты наперед знаешь мой ответ. Ну, конечно, тьма обычна, а свет - исключение. Но как раз в этой огромной тьме особенно радостен луч света. Я человек маленький, но я не был бы человеком, если бы не мог почувствовать эту радость. Я твердо верю, что свет не погаснет и разгорится. И мой долг способствовать этому своей малой лептой.
Каноник был пристыжен твердой верой Вениамина. Он достал свою летопись, заставил себя сосредоточиться, попытался работать. Но сейчас же почувствовал, как тщетны его усилия. Он хотел наглядно показать, что во всем виден промысл божий, он ретиво и наивно изображал бессмысленное так, словно оно было осмысленным. Но он только обдумывал и излагал события, объяснять их он не объяснял.
Как он завидовал Мусе! Мусе легко работать над своей летописью. Он исходит из формулы, под которую подводит все события, и формула эта гласит: все народы рождаются и умирают, переживают молодость и старость, и подтверждение своей формулы он находит у Аллаха и его пророка Магомета. В Коране сказано:
"И каждому народу положен свой срок, и когда этот срок приходит, никто не властен ни на единый час отодвинуть или приблизить его".
Ему, Родриго, не посчастливилось найти смысл и порядок в истории. Ему казалось, что истинная вера запрещает даже искать его. Разве апостол Павел не пишет в Послании к коринфянам: "Немудрое Божие премудрее человеков - Quod stultum est dei, sapentius est hominibus"? И разве не учит Тертуллиан, что величайшее событие в истории, смерть сына Божия, требует веры, ибо оно противно разуму? Итак, если пути Господни неисповедимы, если человеческому зрению и человеческому разуму они представляются нецелесообразными, тогда, значит, даже само стремление говорить человеческими словами о божественном промысле - грех.
Целое столетие христианский мир воевал за Святую землю, сотни тысяч рыцарей нашли смерть в крестовых походах, а отвоевано ничтожно мало. Того, за что пролито столько крови, могли бы достигнуть в течение одной недели путем деловых переговоров трое послов. Понять это отказывался человеческий разум, и слова апостола Павла "немудрое Божие премудрее человеков" приобретали иронический смысл.
Родриго, склонившись над своей рукописью, сквозь зубы злобно сказал:
- Все суета. В том, что происходит, нет смысла. Промысла Божия нет.
Он испугался собственных слов.
- Absit, absit! Прочь, прочь от меня! Да не помыслю я так! - приказывал он себе.
Но если его сомнения в промысле божием - ересь, то в признании им тщетности своих трудов он прав. Вот так он стоял за высоким налоем и что-то писал и царапал целыми днями, а часто и ночами, и хотел видеть перст божий в событиях, целесообразность которых нельзя понять. Он дерзнул оживить великих мужей испанского полуострова, отошедших в вечность: святого Ильдефонсо и святого Юлиана, готских королей и мусульманских халифов, и астурийских и кастильских графов, и императора Альфонсо, и Сида Кампеадора. Он вообразил себя вторым пророком Иезекиилем, избранником Божиим, по слову которого они восстанут из гроба: "Я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею и введу в вас дух - и оживете". Но останки, которые он заклинал, не соединились опять воедино. Люди в его летописи не ожили; это не люди, а скелеты, которые, стуча костями, отплясывают танец мертвецов.
"Не сбивай слепого с пути", - учит Писание. А он как раз это и сделал. Его летопись сбивает слепых с пути и вводит в еще более черную тьму.
Он поднялся с громким стоном. Принес поленья, сложил в очаг, запалил. Собрал бесчисленные листы летописи и записок. Бросил в огонь, молча, крепко сжав губы. Смотрел, как они горели, лист за листом. Мешал обуглившиеся бумаги и пергамент, пока они не превратились в пепел, так что уже ничего нельзя было прочитать.
Бертран де Борн, которому рана не позволяла принимать участие в войне, стремился из Толедо на родину. Он хотел закончить жизнь монахом в Далонской обители.
Но его жестоко рассеченная кисть вспухла, опухоль пошла выше. В таком состоянии нельзя было и думать пробиться сквозь мусульманские полчища, которые проникли далеко на север и заняли все дороги.