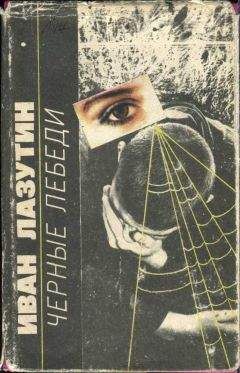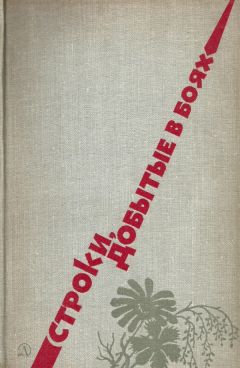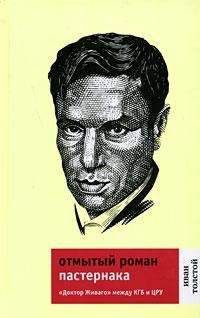Растиславский пожалел, что местом встречи с Лерой назначил этот ресторан. Однажды он был здесь до отъезда в Сочи. Тогда он показался ему тихим, чистеньким. Он уже думал перейти на другое место, но официант, бросив взгляд в сторону соседей, догадливо улыбнулся и сказал, что клиенты в соседней кабине уже «закругляются». Растиславский успокоился.
Размяв сигарету, он закурил. В памяти его отчетливо всплыл тот знойный августовский день, когда он познакомился с Жанной и ее подругой Лерой. С тех пор прошло больше месяца, а ему казалось, что он только вчера гладил душистые, выгоревшие на солнце светлые локоны Жанны, смотрел в большие серые глаза Леры, в которых где-то на самом дне больших зрачков притаились настороженность и тревога.
Расставаясь, Жанна просила звонить, но он так и не позвонил. Зато Лере Растиславский звонил несколько раз. Во время первого разговора Лера была настороженной и злой. Не выслушав до конца Растиславского, она сказала, что детали их пребывания в Сочи ее совершенно не интересуют, и, даже не попрощавшись, повесила трубку.
Как пришибленный, сидел Растиславский в кресле, прижав к уху трубку, из которой неслись короткие гудки. «Ну что ж, выдержим и это, — думал он, шагая по комнате, заставленной полками с книгами. — С тобой, тигренок, нужно по-другому. В душу таких, как ты, врываются не вихрем, а вползают ужом. Входят не с ножом за голенищем, а с пальмовой ветвью в руках. Попробуем и это. Тише едешь — дальше будешь…»
После третьего телефонного звонка Лера все-таки согласилась встретиться.
Местом свидания Растиславский назначил летний ресторан за городом. Он предложил заехать за ней домой, но Лера наотрез запретила это.
И вот теперь он ждет ее. Прошло уже сорок минут, как Растиславский сидит за накрытым столиком в отдельной кабине, а Леры все нет и нет. К нервозному напряжению ожидания примешивались злость и раздражение. На память пришли стихи, написанные Растиславским еще в студенческую пору, когда на свидание к нему — или побоявшись проливного дождя, или просто не пожелав — не пришла девушка с филологического факультета, к которой он питал нежные чувства, перешедшие впоследствии (после несостоявшегося свидания) в слепую враждебность. Это было давно, в первую послевоенную весну. Стихи эти Растиславский помнил и сейчас. Закрыв глаза, он мысленно скандировал строку за строкой и, забыв о том, где он и зачем здесь очутился, в такт ритму слегка покачивал головой:
Каменный мост, Москва, ветер…
Ветер, с цепи сорвавшийся,
Бьет по щекам дождевыми плетями,
Русые треплет упавшие…
А внизу, как и раньше, течет, течет,
Будто в мире все по-прежнему.
Неужель не придет?
Неужель не придет?
Нецелованная и безнадежная.
А за спиной под зонтами спешат:
Непонятно — куда, зачем?..
Да, и он мосту, как застывший солдат,
Был непонятен всем.
Вот уж минутная проползла
Строки все: «от» и «до»,
И начинает пружину зла
Скручивать в молодом.
Дождь или ветер — теперь все равно
Не пришла, значит, быть этому!
Смейтесь, прохожие, если смешно,
Все равно ему, отпетому.
Все равно, какой трамвай —
Лишь бы прочь от моста, подальше,
Убежать бы в другой май
Без обмана, без всякой фальши…
Лера появилась внезапно. Растиславский даже вздрогнул, когда увидел ее на узкой бетонной дорожке, обрамленной густыми шпалерами подстриженного жасмина. Лера пришла не одна. С ней пришла Жанна. Растиславский растерялся. Но это было какие-то секунды. Он тут же взял себя в руки, встал, поклонился девушкам и размашистым жестом показал на плетеные кресла:
— Прошу. Очень рад, что наша святая троица встретилась в Москве.
И тут же, словно мимоходом, Растиславский сказал Жанне, что он несколько раз звонил ей, но ее все не было дома, и, наконец, потеряв всякую надежду дозвониться, решил встретиться с Лерой.
Жанна была возбуждена. Она отлично понимала и видела, что Растиславскому нужна не она, а Лера, что только ради Леры он приехал из Загорска в этот неприметный загородный ресторан. Она неуместно и нервно смеялась, много курила и не переставала язвить по адресу Растиславского, всякий раз с каким-то особым смаком называя его отцом Григорием.
А Растиславский, как и месяц назад, в Сочи, с таким великолепием играл роль священника, что порой, как бы со стороны, сам любовался своей игрой. Речь свою он то и дело пересыпал евангельскими словечками и религиозными сентенциями. Произносил он их усталым тоном проповедника, который даже мысли не может допустить, что слова его не падают благодатными семенами в души слушающих.
Время от времени взгляд Растиславского сталкивался с пьяно-осоловелым взглядом здоровенного парня, сидевшего в соседней, кабине. Раздвинув виноградные лозы, парень, опершись локтем о стол, с затаенным дыханием следил за каждым словом Растиславского. Чувствуя на себе этот взгляд, Растиславский внутренне ликовал: «Доходит даже до этих пьяных скотов. Значит, роль играю убедительно».
Подогретый вином и близостью Леры, а также неотразимым воздействием своей искусной игры, Растиславский старался говорить громче, так, чтобы его слышали в соседней кабине.
Лера пила только сухое вино. Жанна, как и на юге, пила коньяк и между тостами, запас которых у Растиславского был неистощим, тянула через соломинку ледяной пунш. Маленькая керамическая пепельница, стоявшая перед ней, была до краев заполнена недокуренными расплющенными сигаретами с красными пятнами губной помады. И чем больше она пила, тем становилась возбужденней и нервозней. Щеки ее горели алыми кругами. Время от времени она с прищуром посматривала в просвет виноградной стены и кокетливо строила глазки здоровенному парню, на левой руке которого было вытатуировано сердце, пронзенное стрелой.
Растиславский, не обращая внимания на озорство Жанны, рассказывал о том, как несколько дней назад к нему на исповедь пришла восемнадцатилетняя девушка и, заливаясь слезами, призналась, что она «немножечко беременна»… Припав на колени, бедняжка просила у него защиты от строгих родителей, которые, если узнают о ее беде, выгонят прочь из дома.
Не успел Растиславский закончить свой рассказ, как из соседней кабины донесся хрипловатый прокуренный бас:
— Нехорошо, батюшка… Грех надсмехаться над людями. Поп, а коньячок глушите, как безбожник. Да и девочек подцепили фартовых.
Растиславский повернулся на голос. Из-за зеленой стены виноградного заслона на него уставилось пьяное квадратное лицо с маленькими заплывшими глазами.
— Что вам угодно, гражданин? — сдержанно спросил Растиславский.
— А то угодно, батюшка, что не годится так. Днем в церкви кадилом машете да денежки с моленных дурачков выуживаете, а вечером поддаете в ресторане. Живете не по Библии, а как фрайер.
Жанна громко расхохоталась, восторженно хлопая в ладоши. Всем своим видом она хотела подчеркнуть, что ей очень понравилась реплика мужчины из соседней кабины.
— Ну и батюшка, ну и поп!.. — неслось из-за зеленого заслона. — Смехота одна!.. А я думал, что попы не шастают по ресторанам, — это поддержал своего дружка парень, который несколько минут доказывал, что в Воркуте заработки больше, чем на Колыме.
— Хулиганье!.. — резко бросил Растиславский, не глядя на гогочущих пьяных, но тут же пожалел, что так неосмотрительно оскорбил соседей по кабине.
— Что?! Что ты сказал? — басовито и затаенно протянул мужчина с квадратным лицом и маленькими заплывшими глазками. Он решительно поднялся со стула и вошел в кабину, где сидели Растиславский и девушки. Заложив руки за спину, воркутянин так низко наклонился над Растиславским, что тот резко отодвинул кресло к зеленой стенке кабины.
— Что вам нужно?!
— Хулиганом меня когда-то называли, батюшка. Все это было. Но это было давно. Сейчас я работяга. В Воркуте уголек рубаю. Вот они… — он поднес к лицу Растиславского свои большие натруженные руки: — Полюбуйся. Они машут не кадилом, а отбойным молотком.
— Кто вас приглашал к нашему столу, гражданин?! — стараясь не выдать волнения, с подчеркнуто невозмутимым достоинством произнес Растиславский.
— А я без приглашения… Я хочу рассказать тебе, батюшка, одну сказочку. Мы ее в школе проходили, когда я был маленький. Ее написал Александр Сергеевич Пушкин. Называется она «Сказка о попе и его работнике Балде». Может, и вы проходили эту сказочку, когда учились в школе? А если забыли, то я ее напомню вам. В сказке этой говорится, как жадный поп нанял Балду в работники, а денежки ему платить не хотел. Скупой уж больно был. Они договорились, что Балда за работу свою даст попу три щелчка. Ну вот, когда Балда закончил срок работы, то стал он с попом рассчитываться. От первого щелчка поп подскочил до потолка. От второго щелчка поп лишился языка. А от третьего щелчка поп лишился ума. Ну как, батюшка, здорово Александр Сергеевич сочинил?