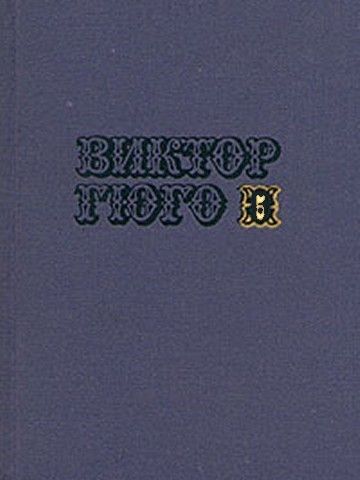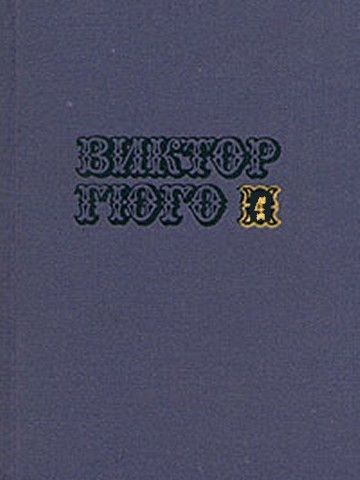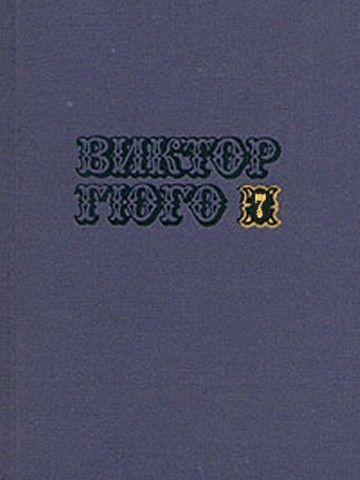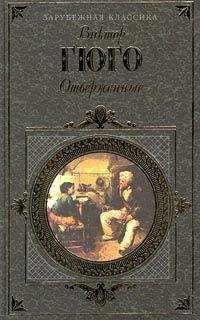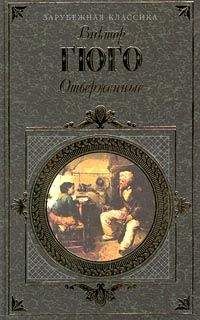обитательница, известная только тем, что она необыкновенно громко сморкалась.
Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения поселиться в монастыре. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрашимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что ненавидит их, и притом она переживала тот период, когда ее обуяло свирепое благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или через семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хотя она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно.
Покидая монастырь, она оставила память о себе в той келье, где она жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Эти два слова довольно точно рисуют ее портрет. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную внутри записочку со стихами, написанными ее рукой красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров:
Imparibus mentis pendent tria corpora ramis:
Dismas et Gesmas, media est divina potestas;
Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.
Nos et res nostras conservet summa potestas.
Hos versus dicas, ne tu furto tua perdas. [29]
Эти вирши на латыни VI века вызывают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников — Димас и Гестас, как принято думать, или же Дисмас и Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальерок твердо верит.
Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, как настоящий крепостной вал, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась и посторонняя публика через проделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквах, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите, что зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных скамьях, налево скучены монахини-клирошанки, направо — воспитанницы, а в центре — послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда из сада. Во время служб, на которых, по уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Силуэты во мраке
В течение шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадмуазель де Блемер, в монашестве — мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора Жития святых ордена св. Бенедикта. Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, за что ее все обожали.
Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена. Женщина образованная, начитанная, ученая, книжница, нашпигованная латынью, напичканная греческим, начиненная еврейским, своеобразный знаток истории, она была скорее бенедиктинцем, чем бенедиктинкой.
Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес.
Наиболее уважаемыми среди матерей-изборщиц были: св. Гонория, казначея; св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом; мать Святые ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи; св. Жозеда (девица Коголлудо); св. Аделаида (девица д'Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуэнтес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенса), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.
К числу самых красивых принадлежала прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Роз. В миру ее звали бы мадмуазель Роз, а в монастыре она получила имя — мать Вознесение.
Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионерок. Обычно она набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.
Из послушниц больше всего любили св. Ефразию, св. Маргариту, св. Марфу, впавшую в детство, и св. Михаилу — всех смешил ее длинный нос.
Эти женщины относились к детям кротко. Они были суровы только к себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. Сверх того — бесконечные попечения о них. Но если девочка, проходя мимо монахини, заговаривала с ней, монахиня никогда не отвечала.
Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучавший на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о событиях повседневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обитательницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы — один и один удар; для ее помощницы — один и два. Шесть и пять ударов означали: «Время идти в класс», и воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили: «идти в шесть-пять». Четыре-четыре — звон для