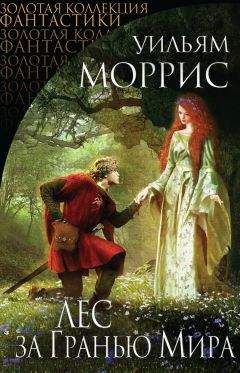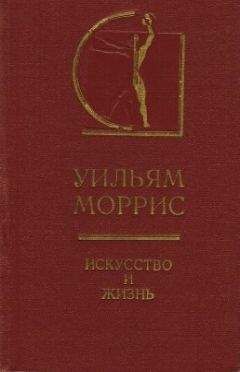ночь. Она сидела там, словно бы ожидала кого-то, – не медля и не задерживаясь, вождь направился прямо к ней, заключил в объятия, поцеловал и рот, и глаза; и она ответила ему поцелуем, прежде чем Тиодольф опустился на камень возле нее. Ласково поглядев на него, женщина молвила.
– О Тиодольф! Едва ли подобает тебе, бесстрашный воин, обнимать и целовать меня, словно встретившуюся на лугу девчонку Илкингов… меня, Дочь Богов твоего племени, Избирательницу Убитых? Тем более накануне битвы… на заре перед выходом на поле брани?
– О Вудсан, Солнце Лесное, – отвечал тот. – Ты – сокровище всей жизни моей, которое я обрел молодым, и любовь к тебе я храню, хотя борода моя поседела. Когда же это я страшился тебя? Неужели в тот день, когда встретились мы на обагренном поле, двое живых посреди мертвецов? Меч мой тогда пятнала кровь врага, а одежду – собственная руда; дневные труды утомили меня, удручали полученные удары, и я думал уже, что вот-вот умру. И тут передо мной появилась ты: полная жизни, румяная и улыбающаяся, в чистой и свежей одежде, с руками, не запятнанными кровью. Помнишь, как взяла ты мою усталую и окровавленную ладонь и, поцеловав пепельно-серые губы, молвила: «Пойдем со мной». Я попытался последовать за тобой, но не сумел, так тяжелы были многочисленные мои раны. Но, измученный и усталый, я возликовал и сказал тебе: «Такова смерть воина, и она сладостна». Как понимать это? Ведь тогда люди говорили обо мне: «Он еще слишком юн, чтобы выйти против врага»… однако же это не мешало мне умирать?
Тиодольф рассмеялся, и слова его полились песней:
Стоя в кольце орешин, мы пили битвы вино.
И солнце достигло полудня, и вот закатилось оно.
Три Короля, три Гунна, вышли против меня —
Хитрые, умные в битве, каждый сильнее коня.
Рыча в безумии бранном, они кусали щиты.
И сперва была битва, а потом мне встретилась ты.
Яснело небо поутру, но дунул ветер, и вот
Увидел я острым оком облак медленный ход.
Гроза собиралась над нами, в чаще залег олень,
Глыбами туч, громами затмился багровый день.
Рухнул Король предо мною, но крепче бились другие два,
Щерилась, усмехаясь, мертвая голова.
И меч мой, воздетый к небу, ливень добрый омыл,
Кровью вместе с водою землю он оросил.
Долго кружил меня, помню, битвенный хоровод…
Натиск мужей-медведей, сраженья медленный ход.
Долго искрилась сталью перебранка мечей —
Под ликованье грома и острых молний-лучей.
Но прежде чем небо успело чуточку просветлеть,
Второй из царственных Гуннов узнал, что такое смерть.
Тогда, ослепленный битвой, сам-друг я пред третьим стал,
В землю мечом уперевшись, Гунн, как и я, отдыхал.
А после дождь сделался реже, ливня распалась вуаль.
И солнце блеснуло белым – словно из покрывал
Мелькнуло плечо нагое, что всякий витязь видал
Брачной своею ночью. И, увидев этот закат,
Я бросился в битву с Гунном, новой ярости рад.
Но пламенем гневным вспыхнул моего противника дух.
И мы играли мечами, покуда день не потух.
Наконец целиком, без остатка отдав себя нашей борьбе,
Пал противник, а я, шатаясь, стал подумывать о себе.
О том, что пора направить обессилевшие стопы
К Обители Могучих, к воротам вечной мечты.
И тогда ты явилась. Скажи мне, Избирательница Мертвецов,
Неужели в тот день я умер, но ты вернула меня от отцов?
И прежде чем голос его умолк, она повернулась к нему с поцелуем, а потом сказала:
– Никогда не знал ты страха, и сердце твое твердо. Тогда он продолжил:
Жестокое сердце, любимая, сохраняет меня живым,
Так порей на садовой грядке жив влагой и солнцем одним,
Жизнь моя – в похвале народа; в ней и мясо мое, и мед,
И сердце мое смягчает ночи медленный ход.
Но когда я восстану утром, пробудившийся ото сна,
Ветер сердце мое уносит и радость моя ясна.
И тогда я истинно помню, для кого и зачем живу
И, наполняясь мощью, блаженствую наяву.
Памятуя хвалы народа, и сей радости есть
Единственная причина: мужество, долг и честь.
– Да, – заметила женщина, – дни вечно гонятся друг за другом, наступая на пятки… дни многочисленны, и они приносят нам старость.
– И все же ты нисколько не постарела по сравнению с прежними днями, – ответил он. – Неужели, о Дочь Богов, ты не рождалась в сем мире, но живешь от начала времен, когда не было даже гор?
Но она откликнулась песней:
Нет, была рождена я, но мой дом – не земной чертог,
Не на холмах земли породил меня Бог.
Знаю и детство, и юность, старость и смерть придут.
Тебе же на поле бранном ведом битвенный труд.
Там, где рука труса, случай слепой оборвать
Могут ежеминутно Норной сплетенную прядь.
Но не меня ты бойся; бойся вместе со мной:
Нам двоим опасаться следует девы одной.
Вирд [2] – таково ее имя, что в сердце моем будит страх.
Вот и теперь наши жизни снова в ее руках.
Но со смехом Тиодольф возразил:
Где же ее обитель? В близком иль дальнем краю?
Станет ли она предо мною в игре мечей, славном бою?
И коль предков злое железо девы той не сразит,
Быть может, она отступит, увидев моей славный щит?
Печаль звучала в ответной песне Вудсан:
Многи Судьбы обители, не спит она ночью и днем.
Чашу пира целует, предшествует с тихим огнем
Вам, Королям народов, восходящим на ложа невест.
Она и мечами машет, строит до́мы во множестве мест,
Ведет корабли из гавани, правит им путь по волнам,
Во всяком слове и деле она сопутствует нам.
Это она отмерит охотника ровный бег,
Это она выводит слепца на обрывистый брег.
Косу жнеца отточит, на пастыря сон наведет,
Коль стая волков направит к овчарне разбойный ход.
И мы, племя Божье, знаем мысли Вирд о себе
И лишь о себе – не о людях и не о вашей