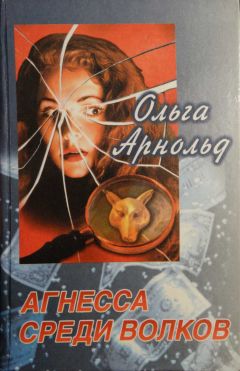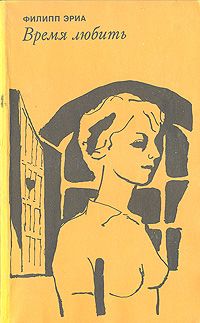Расположившись здесь, как в партере театра, она, впрочем не одна она, могла наблюдать со своего места за непрекращавшимся на улице беспорядочным бегством мотоциклов, грузовиков, битком набитых немецкими офицерами и солдатами, походными сундучками, ящиками и мебелью, французами в гражданской одежде, в мягких фетровых шляпах, и при них иной раз сверх комплекта зрители замечали женщину, судорожно прижимавшую к груди шляпную картонку.
- Это же чудесно, кисанька, - заявила вечером тетя Эмма, которая хорошо знала свой Париж. - Я вполне представляю себе эту картину. Они пробирались к заставе Пантэн прямо по улице Лафайета и по авеню Жана Жореса, которое, заметь, в мое время называлось Немецкой улицей.
На следующее утро Агнесса проснулась раньше обычного, позвонила Ирме, которая, сгорая от нетерпения не меньше хозяйки, уже давно покинула свою мансарду.
- Ну-ка, Ирма, открой окна в сад и скажи, видно ли их на улице?
-- Кого их? Бошей? Видно, мадам. Не так, чтобы уж очень много, не так чтобы часто, а все-таки проходят.
Так длилось несколько дней, в течение которых ход жизни все больше и больше замедлялся. В их квартале люди почти перестали выходить на улицу. Повсюду разъезжали машины, как утверждали, из префектуры, и громкоговорители, установленные на крышах, советовали парижанам сидеть у себя. Чета привратников дома, где проживала Агнесса, устроилась во дворе и в этом укрытии резалась с утра до ночи в белот со своими единомышленниками из жильцов. Коллаборационист со второго этажа, бросив на произвол судьбы семью, куда-то исчез, хотя никто не видел, как он уезжал.
Агнесса строго-настрого запретила сыну хотя бы на шаг удаляться от садика, но сама, возвращаясь с авеню Ван-Дейка, куда бегала навестить тетю Эмму, не удержалась и, хотя небо по-грозовому хмурилось, пошла поглядеть на Елисейские поля. Перед ней была пустыня. Этот центр немецких развлечений, квартал, облюбованный немцами для трудов и забав, нацистский город в самом сердце французского города, продержавшийся целых четыре года, весь проспект от Обелиска до Триумфальной арки, лежал под низко нависшими небесами, безлюдный, притихший: ни пешеходов, ни машин; и лишь по тротуару лениво перепархивали гонимые теплым ветерком огромные куски грязной бумаги, оберточной и газетной. Металлические шторы были спущены, за закрытыми ставнями притаился страх или угроза. Здесь царила тишина, было пустынно, как перед рассветом. Никогда еще Агнесса не видела этих улиц и авеню, по которым она возвращалась сейчас к себе домой, такими вымершими. Это была уже не оккупация, а некий промежуточный этап, провал во времени, синкопа. Говорили, что в центре города началось восстание, что там воздвигли баррикады; а здесь Агнесса не видела ничего, не слышала ничего, кроме перестука собственных шагов по асфальту и эха шагов, отскакивавшего от стен безмолвных зданий. По рассказам немногих парижан, остававшихся в ту пору в Париже, она представляла себе, какими должны были быть дни двенадцатого и тринадцатого июня сорокового года - тот промежуток между бегством жителей и появлением немцев в покинутой столице; проходя сейчас по тем же самым парижским кварталам, она всем своим существом ощущала атмосферу открытого города, затаившего дыхание.
Уже подойдя к воротам, она вдруг решила, что овощная лавка на улице Жоффруа, к которой они были прикреплены, возможно, открыта и что при таком безлюдии ей удастся купить что-нибудь без очереди. Она повернула обратно и на углу улицы Ампер и бульвара Мальзерб, как раз на самом перекрестке увидела священника в сутане, с непокрытой головой; вооружившись метелочкой и совком, он, согнувшись, сметал что-то с мостовой. Агнесса обратилась с вопросом к двум прохожим. Они объяснили: немецкий танк, стоявший на бульваре Курсель и обращенный к улице, регулярно, через каждые десять минут, бил по лежавшему поперек площади Ваграм дереву, где, по предположению немцев, могли укрываться бойцы французской армии Сопротивления. Какой-то прохожий попал под обстрел, и священник не обнаружил после него ничего, или, вернее, почти ничего. Агнесса приблизилась и увидела, что вся мостовая точно усыпана черными конфетти: клочками одежды испарившегося мертвеца.
Двадцать четвертого августа, после полудня, Ирма, которая жила в непрестанном волнении, вернулась с разведки на соседних улицах и заявила, что "они" в Версале.
- В Версале? Странно...- удивилась Агнесса, решив, что речь идет об американцах. - Вчера радио передавало, что они в Сансе и Фонтенбло.
И она направилась к карте, висевшей в спальне.
- Мне-то, мадам, никогда не верит... А мне клялись, что они в Версале!
- Дай-ка мне справочник Боттэна, - приказала истая дщерь Буссарделей.
Найдя в справочнике Версаль, она стала искать хоть какое-нибудь знакомое имя, пусть даже полузнакомое. Она сказала номер телефона, назвала себя, извинилась, сославшись на обстоятельства, и стала расспрашивать.
- У нас, мадам? - ответили ей...- Нет. Еще ничего нет. Но нам говорили о Кламаре.
О Кламаре? Она повесила трубку. Скорее телефонную книжку! Она позвонила в мэрию. Подождала: никто не ответил, В жандармерии то же самое. "Очевидно, в Кламаре идут бои", - подумала она. Просматривая список абонентов, она наткнулась на телефон богадельни. Набрала номер. Тут ей ответили.
- Да, да! Они здесь, они на дороге. Их даже отсюда слышно.
- Кого? Американцев?
- Да нет же, французов. Армия Леклерка. Эх, если бы не дежурство, я бы, уж поверьте, тоже был там.
Агнесса расцеловала Ирму.
- Они в Кламаре!
- А это ближе Версаля?
- Еще бы! Но только не вздумай безумствовать здесь, в нашем квартале. Они еще не в Париже. Займись ребенком.
В порыве признательности Агнесса вызвала Версаль и сообщила, что "они" в Кламаре. Затем повесила трубку и позвонила на улицу Ренкэн.
- Тетя Луиза, армия Леклерка в Кламаре! Это мне известно из самых достоверных источников. Они проходят по шоссе.
- Ой, детка, у меня прямо голова кругом идет. Если бы ты знала, что у нас дома делается!
- Боже мой! Что у вас такое случилось?
- Не у нас. Но сейчас только что арестовали семью с третьего этажа. Коллаборационистов. - Ну и что?