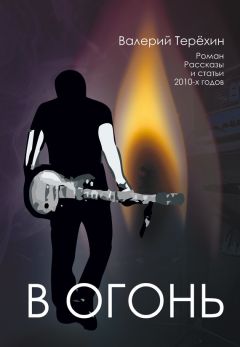Валерий Терёхин
В огонь. Рассказы и статьи 2010-х годов
I
«Как я устал от всего! И ещё эта фотомодель на пенсии. Куда теперь от неё деваться?»
Затхлая духота хрущобной клетки-однушки дожирала остатки сна. Спать уже не хотелось, но не было сил встать: плотское томление, утолённое в полночь с красивой женщиной, измочалило тело и отжало душу.
«Женился себе на голову и нервы… “Русский ударит из-за спины, а грузин только в лицо”. Это твои слова. А я стал бить сзади после сорока, когда уже нет сил бортова́ться в кость с дворовыми тафгаями… Надо было взять твоё фамилиё, как говорят на Кубани. Иван Петрович Облезлов, звучит, но не лучше чем сейчас – Иван Петрович Сидоров. Облезлов, Сидоров… Обухов… Какая разница, какая у меня фамилия. Я – человек, которого нет. Есть только мое действие и конечный результат».
Вчера, наконец, получил регистрацию, то бишь прописку, в Москве, которую всегда ненавидел. В протухшем от пота гастарбайтеров коридоре паспортного стола теребил страницы нового паспорта, испещрённого степенями защиты, глядел на своё незнакомое и чужое лицо среднего возраста: округлившееся, слегка раздобревшее, такое как у всех.
«Леггинсы валяются на ковре, она предпочитает их колготам, чтобы “пятки дышали”… Прописала тебя, и радуйся: будешь хранить верность потрёпанной разводами московской би́ксе. Ну, хоть так, пока мы в ауте, ребята-орчевцы, недоеденные эскапэ. Прикрыли контору по требованию наркотрудящихся – больно шустрые, всем мешали. Теперь распространителям метадона и амфетамина лафа.
А что, может, податься в следственный комитет и… шестерить?.. У тебя “семья”, вроде как. Да нет, уже не возьмут… В оперативно-розыскной части и так оказался самым старым, да ещё провисел полтора года “в состоянии перевода”, как просветили потом в кадрах. Невмоготу мне их видеть, молодых, здоровых и сильных, тех, ради кого четверть века назад мы ломали друг другу хребты! Канули и остались вечно молодыми ровеснички, а ты живи, докапывайся до истины, за себя и за того парня…»
Затылок скользнул по взмокревшей наволочке. Он отстранился от приникшей Милены, слез на изжёванный насадкой импортного пылесоса ковёр и, отойдя от сопревшей благоверной поближе к форточке, энергично занялся зарядкой. Вернее, это была разминка, составленная из упражнений, которые вызубрил с тех времен, когда знал наизусть оба военно-спортивных гимнастических комплекса, обязательных для отличника боевой и политической подготовки Советской Армии. Проделывая одни и те же движения тысячи раз, выцедил из них сквозь годы болей и травм самые необходимые и взял за правило выполнять их по утрам где угодно и когда угодно.
«Пора на пробежку… Впрочем, к чему она? В милицию-полицию не примут, даже если уложусь в норматив и пройду аттестацию: орчевских агентов никуда не берут. А ведь самое время перезагрузить зависший социальный статус. Твои ровесники уже майоры в отставке, а те, кто ещё служат – подполковники с выслугой и готовятся к увольнению с производством в звании. Без тебя всё решили, вот и перекинули в патриоты в порядке шефской помощи. А работа твоя везде одинаковая, только спецификация другая…»
Вспомнил купе ночного московского экспресса, гнавшего его прочь с Кубани, где жизнь не задалась, случайного попутчика, опутанного неудачами, потягивавшего украдкой коньяк, двух его бойких мальчишек, которые, не взирая на запрет папы, срывались с ломаного русского на бойкий испанский.
«Беженец из Узбекистана, отделал квартиру, а потом сдал за бесценок, когда талибы рвались к Ташкенту… Преуспевающая фирма в Испании, строят коттеджи на побережье под ключ. Кухонное оборудование с локальной сетью… А систему охраны местные цыгане взламывают, бросая камни в распахнутые окна, которые невозможно держать запертыми в астурийской духоте. И полиция, культурная, чистенькая, на мотоциклах, которая проносится мимо тем быстрее, чем ужаснее то, что творится прямо на глазах за спиной. От нашей братвы в погонах больше пользы, оттого и грубая. Детишки спускались по трапу, узрели таможенника с его хамским “тыканьем”, наслушались мата и запросились назад в самолет, в Испанию к маме…»
За спиной зашелестела простынь, край полосатого чёрно-белого одеяла завис над полом. Он покосился на спящую супругу. В полумраке тюлевых занавесей Милена заголилась, разбросав ноги, и лежала с полным соблюдением «фронтальной открытости» ниже талии, из-за которой торгуются сошедшие с подиума фотомодели, обивающие пороги подпольных видеостудий.
Въедливо потёр взглядом не потерявшие упругости формы никогда не рожавшей женщины, еще не тронутые целлюлитом.
«Да, хороша!.. Вот и вся твоя жизнь, Милена: брак, чтобы уйти из родительской квартиры хоть куда, потом второй – развод – размен – и, наконец, вожделенная однокомнатная клетка в четырехэтажке под снос. Зато теперь свобода от “семьи”. И многолетний отдых в одиночестве от “детства” и “юности” в этих рукотворных многоэтажных сталагмитах, где те, кто тебя родил, просчитывают за спиной каждый шаг, предвкушая новую неудачу, лишь бы не уходила и пахала на них до конца дней… Откуда сызмальства выдирался, дурея от квартирного вопроса, и вырвался едва живой».
Сквозь тюлевую щель прорезался солнечный луч. Милена сверкнула из-под ресниц болотной ряской влекущих глаз, невыносимо медленно потянула одеяло на себя и целомудренно прикрылась до самого подбородка:
– Сам себя обслужи, Ваннечка… Чай с котлетами… в холодильнике возьмми… хлеба ннарежь… И грабли свои колхознные убери!.. Взгуртовал за нночь, как скирду… Плейбой-плебей!..
Завернувшись в одеяловый кокон с хвостом бахромы, жена оскорблённо повернулась к стене.
«Опять во всём виновато “быдло из провинции”, – выскребая щетину с шеи и скул «жилеттовским» станком, думал он в ванной, – только не она сама…» В голове завертелись сцены орчевской житухи. Вот начальница, капитан Саша Моргунова, собирает в 9.00 оперативное совещание, клюет костоломным подбородком, процеживая матом распоряжения. Молодые мужики в кожанках – от старших оперуполномоченных и ниже, набившиеся в её кабинет, шлифуют локтями стол, лебезят, смакуя предстоящий захват, а его, как прикрепленного к ОРЧу[1] агента, опять высылают «в адрес», где придётся высиживать радикулит до полуночи.
Затерзали нудные воспоминания о захороненном в памяти прошлом.
«Героем ты не стал и даже инвалидность не получил… Стащили с кузова гриппозного “партизана”[2], отобрали ремень и амуницию, донесли, досквернословили, до приёмного покоя и бросили на кушетку. Таких не берут в контрактники…»
Провалявшись пару недель с жжёной мутью в глазах, он так и не доехал до пункта сбора, где контрактники встали в строй с чабанами-ополченцами и сгинули в неудачной атаке в предместьях большого кавказского города… А как подлечили его, болезного, в чужих воплях и стонах, так сразу и спихнули на перекладных в казачью станицу, затерявшуюся в кубанской степи. В правлении рассыпа́вшегося совхоза, где млели от жары плечистые каза́чки, сгорбленный и отощавший, прозаикался, что паспорт отобрали в областном военкомате и куда-то задевали, а военный билет пропал в буденновской больнице. Ему поверили, и местный паспортный стол одолел быстрее, чем хворь. Документы выправили заново, в новую ксиву вклеили фотку, где загар спрятал опалины на лбу и переносице, огненные метки пожара в Доме Советов, когда, растерявшийся и сникший, чудом уцелел. Имя, фамилия, отчество придумал такие, как у всех. И мозг уже противился воспоминаниям о том, что когда-то вырос в С., в дальнем Подмосковье, и распирало от счастья, что прошлое умерло навсегда.
«Перелуди́л себя без канифоли и припоя, Иван Петрович Сидоров…»
Его пристроили на свиноферме и два года подряд поднимался засветло без пятнадцати пять, а в 8 утра и в 4 вечера как по расписанию глохнул от свиных вувузе́л. Передёрнуло вдруг от зазвучавшего в ушах визга сотен проголодавшихся хрюшек – матёрые хряки вставали на задние лапы, скребли копытцами хлипкие глиношлаковые бортики и жевали его подслеповатыми розовыми глазками, пока он расплёскивал из ведра в кормушки дымящееся варево из вскипяченных отрубей и жмыха.
Не притёрся там ни к кому, и подался на “железку”, а оттуда отфутболили в линейный отдел милиции на транспорте – и назначили “прикрепленным агентом”. Перевели вскоре на Растобинскую: отъедался потихоньку – мёд, молоко, сало, всё свое. И казачек смазливых не мало, встретил было одну, да не удержал…
«“Жизнь подходит к финишной черте, силы у меня уже не те!..” «“Облачный край” всё спел в 84-м, еще до перестроечного потопа. Да и морда пироксилином сполоснутая, как ещё потом Милену поклеил… Всегда тебе везло!»
За окном по Дмитровскому шоссе медленно ползла гудевшая и чадящая металлическая саранча, облепившая с утра разогретые асфальтовые полосы. Он уминал сытные котлеты вприкуску с зачерствевшим хлебом и торопливо заглатывал воспоминания, прихлёбывая из чашки аристократический «Ристон» с кленовым сиропом.