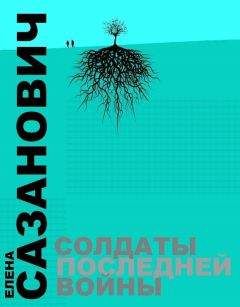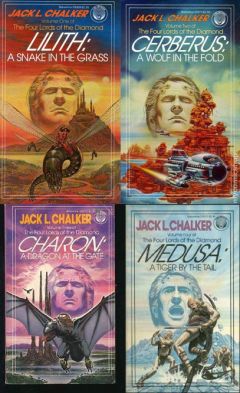И вот теперь они, сияющие и румяные от уже выпитого, ворвались в мой дом и тут же на маленькой кухне организовали незатейливый стол. Самый вкусный стол на свете. Такой у нас случался каждый год, когда из своего села приезжала Шурочкина бабушка. Правда, с каждым годом стол заметно скудел, насколько скудела вся деревня. И если раньше мы баловались паштетами из гусиной печенки, пальцем пиханной колбасой, рулетом из свежей телятины, мочеными рыжиками и всякой другой всячиной, то теперь приходилось довольствоваться солеными огурцами и куском сала. Но мы не сетовали на судьбу. Слава Богу, пока что-то есть, а вот что будет в следующем году…
– Ах, какая прелесть! – причмокивает языком Петух, с наслаждением разрезая свежее, розовое, холодное сало и тут же забрасывая кусочек в рот. И от удовольствия зажмуривает глаза. – Ну давай, Кирюха. Разливай.
Я разливаю по рюмкам такую же холодную смородиновую настойку на спирте (от бабушки) и мы чокаемся.
– За бабушку! – хором кричим мы. Уже который год так кричим. – Дай ей Бог здоровья.
– Ай, да огурчики! Малосольные, с перчиком, – не нарадуется жизни Петух, от удовольствия потирая руки. – А что стало с грибочками? Почему сегодня они не украшают наш праздничный стол? Или их тоже уже приватизировали?
– Не-а, – мычит набитым ртом Шурочка. – Их радионуклидировали. Полдеревни отравилось. Вот бабуля и опасается, как бы и с нами чего не вышло. Она же не внукоубийца.
– Хорошая бабушка, – хохочет Петух и тут же с шумом оборачивается ко мне. – А вот ты порядочная свинья, Кирюха. Неужели забыл про сегодняшнее число? Эх, ты! Мы целый день шастаем вокруг такой элегантной бутылки и такой шикарной закуски. И слюнки глотаем. Но, заметь, без тебя не начинали, выдержали! Разве только – исключительно, чтобы скрасить ожидание – выпили по парочке пивка. А ты… Даже не сказал, когда будешь. Свинья ты порядочная. Давай, лучше жарь свою яичницу. А то одним салом сыт не будешь.
– Нет! – театрально выкрикнул я. – Чем яичница – лучше застрелиться!
Петух с Шурочкой угрожающе на меня посмотрели.
– Нет, ребята, – уже жалостно попросил я. – Сжальтесь. Прошу. Только не яичница.
Они, встав в боксерскую стойку, стали медленно подступать ко мне. И я покорно поднял руки вверх.
– В конце концов, все равно в доме больше ничего нет, – обречено вздохнул я и включил электроплиту.
Изредка поглядывая из-за плеча на своих верных друзей, я в который раз благодарил судьбу за то, что они рядом. Мы были разными – и по характеру, и по темпераменту. И в тоже время – похожими. Мы принадлежали одной команде. И сегодня относили себя к последним романтикам. Не приспособленцам, но, к сожалению, и не бунтарям. Мы были раздавлены внезапно наступившей реальностью. Но мы сами дали себя раздавить. Оставшись погребенными под обломками некогда великой и огромной страны. И вина за все произошедшее во многом лежала и на нас…
Петух словил мой отстраненный философский взгляд и весело подмигнул.
Он был хороший парень, Петька Рябов. Поэт и немножко циник. В общем, удачное сочетание, чтобы нравиться всем девушкам подряд. Сколько помню, они все в него влюблялись. И всегда с первого взгляда. С первого – потому что внешность Петуха к этому весьма располагала. Здоровый, высоченный, светловолосый и голубоглазый, этакий скандинав, он всегда широко улыбался и мог запросто завести разговор на любую тему. Стоило ему только раскрыть рот, девушка была покорена уже окончательно.
Как и всякий, закончивший филфак, он писал стихи. Что не мешало Петуху, в отличие от других его коллег, не только знать наизусть уйму чужих, но и предпочитать их собственным сочинениям. На удивление, он не был тщеславен. И не мечтал стать знаменитым поэтом. Он хотел быть педагогом и учить детей любить литературу и родной язык.
Впрочем, теперь это малого стоило. Нет, даже не в денежном эквиваленте. Петух, вообще, от природы, слабо разбирался в финансовых делах. Если у него неожиданно и появлялись деньги, то вскоре так же неожиданно и исчезали.
В один прекрасный день Петух вдруг понял, что его знания, его желание быть полезным обществу, его взгляды на жизнь, людей и мир уже никому не нужны. Просто не интересны.
Это случилось несколько лет назад. Когда он, после многочисленных мытарств, поисков себя и цели в жизни, вдруг окончательно решил остановиться на педагогике. Когда понял (уже поумнев и повзрослев после окончания института), что просто поэт – не профессия. Вот тогда-то он и устроился в близлежащую школу. Тогда-то, после нескольких недель работы, он появился у меня растрепанный и усталый. Я впервые видел его таким подавленным.
– Вот и все, Кира – промямлил он. – Я не вписался.
Помню, я очень разозлился. Как можно так легко сдаться?! Хотя я злился, скорее, на самого себя. Я так же легко сдался, и так же легко ушел от борьбы за свою музыку. Мы оказались удивительно уязвимыми и не готовыми к т-а-к-о-й жизни, где все измерялось долларовыми банкнотами. И оказались выброшены за борт…
Все первое время своей педагогической деятельности Петух тщетно пытался вознести духовность до высших сфер. В общем, вознести то, что нельзя увидеть, потрогать руками, купить и перепродать, сделав на этом деньги. Ученики его вроде бы слушали, даже задавали умные вопросы. Но когда в конце четверти провели анкетирование по теме «Кем ты хочет стать?», практически все детишки ответили: банкирами, адвокатами, визажистами, клипмейкерами и фотомоделями.
– Ты представляешь, – чуть не плакал Петух, – ни одного космонавта, поэта и изобретателя!
– Ну, Петька, – как мог успокаивал я его, одновременно успокаивая и себя, – в конце концов, ты попал еще не в самую худшую школу. Радуйся, что в списке не фигурировали проститутки, сутенеры и киллеры. В принципе, дети не виноваты.
– Да, не они, – согласился Петух. – Только не могу взять в толк, откуда столько гнилых родителей? Ведь они же, Кира, все – из нашего поколения.
Ответа у меня не было. Он затерялся где-то в конце перестроечных 80-ых. И чтобы его правильно сформулировать теперь уже понадобится не один год. Хотя, возможно, его уже разыскало нынешнее время. Потому что время и было самим ответом.
Петух вскоре успокоился, поступил в аспирантуру своего института, наивно полагая, что студенты, более-менее взрослые и понимающие люди, не столь испорчены и ограничены. И уже по-новому с энтузиазмом принялся за работу над кандидатской, тема которой была насколько проста, настолько и неблагодарна: «Любовь к Родине в произведениях Сергея Есенина». Бедный Есенин! Он и не подозревал, что его любовь к Родине также уже никому не интересна. И что оценкой тому станут насмешки и презрение. Бедный Есенин! Он не мог знать, что талант слишком многого стоит. И гений не прощается даже после смерти. А любовь к Родине становится вредной и опасной.
Впрочем, этого тогда не знал и Петух. Защиту его диссертации постоянно откладывали и в конце концов отнесли на неопределенное время.
Петух не мог и уже не хотел гнаться за временем. Чем больше проходило дней, тем меньше оставалось желания работать. Боль заглушала все слова и все мысли. И в конце концов Петька махнул на все рукой. Мысленно попросив прощения у Есенина и у Родины. Но институт не бросил, несмотря на то, что к тому времени его зарплаты хватало лишь на сигареты и хлеб. Хотя жизнь заставляла его подрабатывать где только можно, он все еще считал своим долгом нести в студенческие массы «доброе и вечное». Чтобы окончательно не опуститься и хотя бы немного себя уважать. Он уже не задавался вопросом: кому это нужно? Это было нужно прежде всего самому Рябову, у которого еще не удалось вытравить чувство интеллигентности и достоинства. Хотя он уже и перестал писать стихи.
– Да брось ты, Петька, – попытался я как-то спасти поэтический дар товарища. – Стихи можно писать всегда. И везде… Ты знаешь не хуже моего. Люди сочиняли и в окопах, и в казематах, и за колючей проволокой…
– В окопах, говоришь, – усмехался он, по привычке жуя сигаретный фильтр. – В казематах… Может быть… Но, знаешь, это как при тяжелом ранении, когда еще дышишь, еще осознаешь все происходящее, но уже – на последнем дыхании. Когда смерть уже схватила жестокой хваткой за горло… Скажи, Кира, тогда можно что-нибудь сочинять? Нет, разве что кричать, вернее, хрипеть. Только на это и хватает сил. Последних сил.
– Тогда кричи, Петька! Стихами можно тоже кричать.
– Нет, Кира, боль настолько велика, что притупила все чувства, исковеркала смысл. И кричать можно только нецензурной бранью. Не мой стиль, ты же знаешь. Горлопанов и так предостаточно. Это не для меня.
Однажды Петух появился на пороге усталый и взъерошенный. От него сильно разило вином. Он со злостью швырнул на пол огромную тяжелую сумку. И мрачно продекламировал:
«Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и легко.
Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском,
Вдохновляюсь порывно и берусь за перо!..»
Норвежским и испанским даже не пахло. Он был в порванных джинсах и мятой испачканной майке. Шампанское он тоже не принес. Зато выставил на стол бутылку дешевого вина. И тут же принялся ее откупоривать. Но в остальном Петух не лукавил – его сумка была полна ананасов! И мы с Шурочкой недоуменно переглянулись.