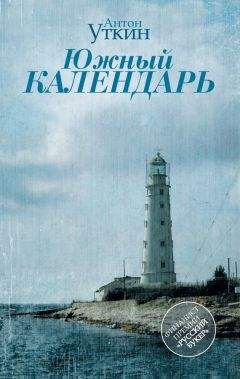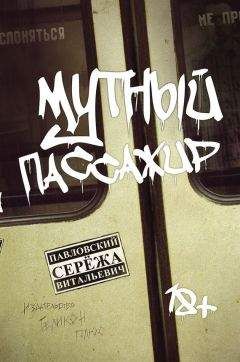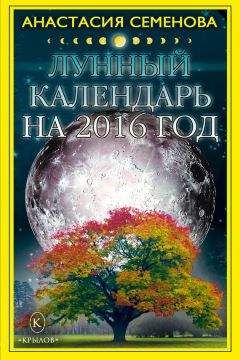Евдосе удалось наконец освободиться от юбки, и она стремглав помчалась к лесу. Около самой опушки она споткнулась и упала, встала, побежала опять. Несколько девок, поумнее, смекнули, в чем дело, и бросились вдогонку. Шульган, смешно подпрыгивая, подскочил к Макарусю и, тыча своим костылем в его глупую, осоловевшую морду, закричал не своим, каким-то бабьим, порванным голосом:
– Сгубил девку, изверг бесстыжий! Но и тебе не жить на свете! Не снесет тебя земля!
Парни выхватили из костра палки и горящими били казака. Костер развалился – сделалось темно. Привели Евдосю. Ее черты дышали безумием. Кровавые отблески луны прыгали в ее зрачках. Она молчала и словно не видела никого и никого не узнавала и вдруг зашлась леденящим смехом, вскинув лицо к мерцающему небу. Вокруг нее снова сложился хоровод, но теперь это был уже неподвижный, мертвый круг, кое-как составленный из притихших людей. Евдося делала шаг, и на шаг пятились люди, охватившие любопытством ее маленькую фигурку. Парни и девки молча стояли, испуганно отступая от каждого ее движения, словно освобождая место для неведомого и страшного беззвучного, танца.
Евдося заглянула в каждое лицо, а потом села на землю и принялась рвать траву, складывая к себе в фартук травинку за травинкой. Тут всем стало ясно, что она повредилась умом. Девки запричитали сперва тихонько, потом все громче и тревожнее. Парни, косясь на девушек, насупленно молчали. Хмель мигом слетел с Макаруся, и он сгинул впотьмах.
Долго еще гвалт раздавался на поляне: озабоченно перекликались потерявшие друг друга знакомцы, всхлипывали сердобольные девки и возбужденно говорили парни, потом все успокоилось, и снова раздались смешки и даже звуки поцелуев. Разбросанные угли догорали на утоптанной траве, и надрывные рыдания неутешной Устымки оглашали то место, где еще недавно пели и веселились люди, заглушая сосредоточенные шорохи ночи.
Той же ночью
понесли из села ведьму . Бабы из лоскутов и латок сшили чучело и, насадив на тычку, понесли к Бугу. Там, на берегу, побрали палок и разбили его на шматки, а шматки побросали в воду, и неумолимая бурлящая волна потащила их в черные омуты.
«Иваново сонейко ходыло, ходыло,
Ой, раненько зашло, наоколо обойшло
На Ивана. Летала видьмэшчо с Киева до Киева
На Ивана, на Ивана».
Закончив петь, бабы молча смотрели, как извилистый Буг влечет за собой безвольные ветви ив и ужом серебрится под низкой багряной луной.
С этих пор Евдося все больше пропадала за деревней, забираясь в самые чащобы. Она бегала по топкой чернике, со смехом перепрыгивая с кочки на кочку, или ходила под соснами, собирала рыжие и ломкие иголки, складывала их в фартук и несла через дорогу, под дуб, что стоял на Куптии. В его тени, беззвучно шевеля губами, она считала и насыпала иглы ровными кучками, и случайный прохожий никогда больше не слышал на Олендарской дороге щемящих и чудесных песен. Старый дуб еще пуще бережет ее от палящего солнца и беспокойного дождя: ни одна капля не проберется между его угрюмо сдвинутых, насупленных лап, ни один непрошеный луч не пронзит его густую крону, и едва прикоснется, упругая ветка отбросит его назад, в голубую стихию беспечной радости.
Под дубом находил ее Семен и выкладывал из узелка снедь, поглаживая бессильной ладонью изборожденный морщинами ствол старого дерева; и дуб горевал вместе с ним корявой душой.
Ночами она распускала свои русые косы и ходила по нескошенному житу и подставляла лицо лунному свету, высасывая безумными очами его тайную, живительную силу. «Русалка по житу ходит», – говорили люди.
Так она провела две годины и тихо отошла на третье лето.
Похоронив жену, Семен вырыл в соснах глубокую яму и опустил туда при луне короб добра, а сверху положил рало. После этого заколотил хату и вечером ушел с Шульганом в Польшу, избыть кручину среди чужих людей.
Говорили люди, что в этот день некая курица прокричала петухом и стало большое ненастье. В дуб, что стоит на Куптии и поныне, ударила черная молния и опалила половину свирепым огнем, другая же половина осталась нетронутой, потому что небывалый ливень затушил пожар. Так он и остался – одна половина приветливо зеленеет, а сквозь зелень листвы тянутся к небу изломанные обугленные ветви.
Под его осиротевшую кровлю порой забредает Желудиха со своими свиньями. Желудиха сидит и шуршит неразлучной ореховой палкой в нападавших листьях. Глаза ее пусты, едва разжимая тонкие бледные губы, она тихо напевает купальскую песню:
«Зелено болото, зелено,
Отчего так рано и полегло…»
Рассказывали также, что утром в небе над Бугом явилась Богородица. Солнце озарило землю от края до края, и с прозрачных высей пролился грибной дождь, нежный, как кружево. «Божья Матерь плаче», – говорили старики, обращая взоры к нерукотворному образу скорбящей девы. Слезы катились по бледному ее лицу. Смешавшись с нитями слепого дождя, они умыли травы и злаки и весь крещеный мир, убирая землю для новой любви.
1996
Василий Александрович сел в поезд в Лоо. Было уже темно, и на путях, как волшебные цветы, горели разноцветные огни. Купе ему досталось первое от проводников, место второе, верхнее, вагон оказался неимоверно старый, и возникал вопрос, почему он до сих пор не списан и портит людям настроение.
В обшарпанном купе уже сидели женщина и мальчик. Василий Александрович поднял рюкзак и задвинул его в нишу над дверью, с краю положил ледоруб. Женщина поспешно встала, может быть, думала, что ему надо положить вещи под сиденье. У нее были худые бедра, большая грудь и большие ступни в голубых туфлях с порванными задниками и побитыми носками. Мальчик смотрел исподлобья и хмуро.
Василий Александрович выложил на пустой столик, весь исцарапанный ножами, флягу, поставил кружку, посидел, поглядел, отвернув занавеску, в окно.
Поезд долго тащился вдоль берега, по насыпи из слежавшегося щебня, поросшего травой. Рельсы бежали почти у самой кромки моря. Между железнодорожным полотном и водой неширокой полосой тянулись пустые холодные пляжи. Слева, ниже полотна, рос кустарник и мелькали черные деревья.
Василий Александрович бросил на столик пачку сигарет и коробок со спичками, достал, подумав, книгу, купленную на толкучке в Сочи – Теофил Готье «Путешествие в Россию», и принялся читать. «Они не спят всю ночь, не знают, что такое шнур – открывают сами дверь по первому зову», – читал он, но почему-то никак не мог сдвинуться с этой строчки. Тогда он снова стал смотреть в окно.
Косматые очертания теней захватывали каменный парапет, за которым скользили вагоны, и уносились прочь вместе со столбами. Из-за туч выбилась луна, и на равнине воды образовалась дорожка спокойно переливающегося света. Кое-где на гальке в беспорядке лежали перевернутые бетонные блоки, похожие на разбросанные детские кубики, некоторые из них окунались в воду. Волнорезы через ровные промежутки уходили из берега в море, поблескивая мокрыми боками, в их пролетах с усилием ворочались волны, у края воды тонкими мазками вспыхивала пена и тут же исчезала, зализанная новым гребнем.
Хмурый проводник принес стакан в подстаканнике, сахар и пакетик заварки без опознавательных знаков. На ногах у него были матерчатые тапочки, тугой живот нависал над пряжкой потертого ремня, и при каждом его движении будто колыхался под темно-синим шелком рубашки. Говорил проводник с акцентом, растягивая гласные, и носил черные, толстые, с острыми концами усы. Руки его были грязные от угля, как будто прокопченные, с короткими крепкими пальцами и толстыми не стриженными ногтями желтого цвета. От него исходил неприятный острый запах – помесь пота и чеснока. Женщина, освобождая ему дорогу, с готовностью подобрала ноги и смущенно улыбнулась.
– Хотите? – Женщина извлекла из сумки пластиковую баночку с шоколадным маслом и сняла круглую крышку. Масло отливало копченым блеском, таким же точно, как руки проводника, на поверхности виднелись следы чайной ложки.
– Нет, спасибо, – ответил Василий Александрович. – А вы что же?
– Мы-то уже пили. Больше ничего нет, – сказала она так же нерешительно, как будто должна была что-то непременно дать. Даже смотрела она немножко виновато. Мальчик сидел тихо, или уткнувшись в окно, или молча поглядывала на мать.
– До Ленинграда едете? – спросила женщина.
– Да, до Петербурга, – ответил Василий Александрович, – до конца… А вы?
– До Курганинска, – сказала женщина, виновато улыбнувшись. – Знаете?
Василий Александрович кивнул:
– Видел в расписании.
– Без билетов едем, – сообщила женщина. – Так нас посадили. – Она повела головой в сторону проводника и на мгновенье опустила глаза. – Лето кончилось, а билетов нет, – торопливо проговорила она, – что же такое? А?
– Да, – сказал Василий Александрович, – нет билетов почему-то.
– А вы до Петербурга, значит? – еще раз спросила женщина, и мальчик повернулся и тоже глянул на него.