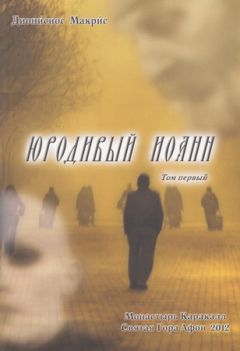Среди бандитов мало было протестантов и сектантов. Наши в основном были православными, а чечены – мусульманами. Каким-то образом традиционные религии могли легче усваиваться бандитами. Быть может, это следствие некой архаичности Православия – его становление пришлось на время господства меча. Бандит-баптист это явление малоизвестное, потому как баптисты отлучают грешников от Церкви и за «малые» провинности. Но временем господства денег их трактовка христианства была востребована лучше. Сектанты сводят христианство к простой моральной доктрине, придерживаясь которой можно войти в рай, да и на земле жить – не тужить. Православным же мог быть любой бандит. Отчасти потому, что были батюшки, которые с радостью продавали отпущение грехов. Я говорю об этом безо всякого праведного гнева и осуждения. Не потому, что я не сужу, дабы не быть судимым, и даже не потому, что у меня самого рыльце в пушку. Просто я считаю, что подобная икономия сребролюбивых пастырей, которая в наше время стала почти акривией, послужила ко спасению душ многих и многих…
…Как-то я спорил с одни баптистом, который осуждал поведение «православного» бизнесмена-ломбардье, что, дескать, заимел он привычку каждую неделю приносить в храм большую сумму денег, думая тем самым, что теперь находится под покровительством Божьим.
– Глупец! Он откупается от Бога, Который, как известно, ни в чём не нуждается! – негодовал баптист. – Вместо того, чтобы изменить свою жизнь и бросить недозволенный бизнес, этот человек закапывает этими купюрами свою совесть.
– Но ведь посмотри на это по-другому, – защищал я этого в общем-то никчёмного барыгу и ростовщика. – Быть может, у него пока нет сил на то, чтобы резко изменить свою жизнь и он, жертвуя деньги храму, делает первый шаг.
– Так ведь он никогда не сделает второй шаг, довольствуясь своими подношениями и успокаивая свою совесть! Никогда, слышишь?
Тут настала моя очередь негодовать: – Так что, выходит, это не правильно, что он жертвует деньги на храм Божий?
– Какой храм Божий?! – скривился баптист. – Дом мой – дом молитвы наречётся… Конечно не правильно, пусть изменяет свою жизнь!
– А если он пока не может, что теперь? Застрелить его, что ли? Знаешь что! Пусть лучше жертвует деньги и надеется, чем пропадет во мраке отчаяния. А сделает он второй шаг или нет, мы не знаем. Бог знает…
Здесь я защищал этого бизнесмена, потому что его жертва, смердящая, как молитва Николаю Чудотворцу того разбойника из притчи, была разновидностью моей «веры на час». Баптист, по моему разумению, был не прав: человек просто не может топтаться на одном месте. Всякий процесс имеет движение – либо гаснет, либо развивается. И этот бизнесмен – либо перестанет жертвовать деньги храму, предпочитая оплачивать услуги современных психоаналитиков, либо постепенно будет втягиваться в церковную жизнь.
Так и наша бандитская «вера на час» – либо она становится всё слабее и лицемерней, пока вместо помощи не будет вызывать гнев Господень; либо она укрепляется в душе и побуждает к изменению собственной жизни…
Но в тот день я не думал обо всём этом. Я просто верил. Ну и пусть, что всего лишь на один час.
Потеря и обретение смысла
После вышеописанного случая был большой сходняк в «Пулковской», где криминальные короли в «партаках» принимали административные решения и вырабатывали стратегию развития первого криминального синдиката РФ. В результате бурных дебатов, когда одному вору даже, по просочившимся в нашу среду слухам, «дали по ушам», нашу бригаду расформировали, – так сказать, всех понизили за грубый промах. Транзит кокаина вверили более надёжным братьям. Куба же попал под подозрение большого босса и, как я уже писал, был расстрелян в парадной дома его пассии, которая даже не явилась на его похороны, убежав в Москву к родственникам. После этого я больше стал понимать, почему бандиты зовут своих подруг «мясом», тем более, что и сам несколько раз уже наткнулся на любовном фронте на двуличие и корыстолюбие кажущейся детской невинности.
Кубу приглушили наверняка. Три пули в мускулистом теле и каждая поразила жизненно важные органы! Так проданный кокаин вернулся бумерангом. Это убийство застало меня врасплох, ведь уже казалось, что тучи, висевшие над ним, начинают расходиться.
После «боевого крещения» в порту, я повзрослел лет на пять, а смерть Кубы сделала меня окончательно зрелым, развеяв последние иллюзии относительно выбранного мной рода занятий. Я отнюдь не хочу петь дифирамбы бандитам и всем жестокостям, что творятся в той среде, но факты – вещь упрямая. Когда ты по-настоящему понимаешь, что в каждую минуту можешь покинуть сей мир, то становишься гораздо мудрей своих сверстников, у которых в голове детство борется с юностью, как в марте зима с весною. В аскетике это называется памятью смертной. Чем ты ближе к смерти, тем сильнее понимаешь жизнь, чем сильнее понимаешь жизнь, тем тебе ближе становится смерть. Жизнь – это друг, которого нужно держать рядом, а смерть – враг, которого нужно держать ещё ближе, чем друзей, никогда не выпуская из виду. Целее будешь.
Когда хоронили Кубу, шла осень, приближалось время моего восемнадцатилетия. Внезапно лишившись покровителя, я попал под жесткий психологический пресс старших бандитов, которые выражали сомнения – стоит ли держать на довольствии такого сопляка, как я. Тем более, у меня не было ни организационных способностей, ни достаточного «душка», чтобы прослыть «золотым пацаном» – то есть потенциальным авторитетом в будущем. С другой стороны, и отпускать меня как-то уже было не по понятиям, поскольку я был в курсе многих дел малышевских, являясь лишь мелкой разменной монетой. Плетясь за гробом Кубы, я думал, что, может быть, скоро понесут и меня к маме, на Волковское. В свои восемнадцать я уже чувствовал себя стариком, которого в любой момент может подкосить инфаркт. И эти чувства плодили различные депрессивные мысли. Ради чего невидимая рука Бога, вселенной или судьбы вытащила меня на белый свет из небытия? Да и вообще, спрашивал ли кто меня: быть мне или не быть, прежде чем вселенная услышала мой младенческий крик? С тех пор как, я открыл себя сомнениям, подобные мысли были моими частыми гостями.
Смерть Кубы заставила меня серьёзно задуматься о смысле моего существования. В самом деле, если конец каждого из человеческих существ одинаков, стоит ли продолжать жестокую борьбу за существование? О, этот вечный вопрос: быть или не быть?! И отвечать на него следует не словами, а делами…
…Когда гроб опускали в могилу, я невольно подумал о том, что бандиты не удосужились позвать священника, отпеть новоявленного христианина Кубу, его же Иоанна, и что теперь его тело можно называть трупом, тогда как отпетые бренные останки христианина называются мощами. Мы хоронили не человека, а труп, потому как человека отпевают. Через пару лет, я всё же отпел его заочно в Псково-Печерском монастыре…
…Разговаривая как гопник, я всё равно продолжал мыслить как православный. Лицемерие? Ну да. Среди бандитов я старался не афишировать, что был сыном священника. Зачем? Я старался не выделяться из нашей серой волчьей стаи, был ни мягче, ни жестче других. Хотя приходилось участвовать в разных нехороших делах. Будучи сыном братвы более, чем сыном священника, я старался быть немногословным, больше слушая и отвечая только на прямо поставленные вопросы. Да-да, нет-нет. Так же была во мне какая-то стыдливость в общении, за что мне приклеили кличку Аббат. Я никогда не ездил в сауны к проституткам и не участвовал в так называемых «субботниках», хотя для нашего брата это вполне законный вид досуга. И ещё – я никогда не ругался матом…
…В могилу некоторые братки покидали свои часы, кто-то бросил большой нож с кровостоком и зазубринами, а один кудристый хохол, что не скрывал своего удовлетворения смертью Кубы, бросил на крышку гроба открытую колоду карт:
– Спи спокойно, братка! Жил ты грешно и умер смешно! – От удара о крышку гроба карты рассыпались рубашкой вверх.
«Наверняка краплёные», – подумал я и поёжился от холода и переполнявших сердце чувств, глядя как полупьяные гробовщики закапывали могилу. «Мы тут с Богом играем в дурака. Вот только Ему все наши карты известны, поэтому у нас нет никаких шансов выиграть. Только если… – от этой мысли мне стало страшно: только если самому уйти из жизни, – встать из-за карточного стола и заявить, что не намерен дальше продолжать игру». Я был жизнелюбивым человеком, но в тот момент, на кладбище, мне впервые стала понятна идея самоубийства, как бегства из тюрьмы жизни, где мы проводим свой век, обречённые страдать – тянуть лямку жизни. Мы остаёмся в этой тюрьме, потому что чувствуем, что это всё-таки лучше, чем ничего. И потому что надеемся. «Надежда умирает последней», – любят говорить оптимисты, не понимая, что этот афоризм крайне пессимистический по своей сути: в нём содержится мысль, что надежда всё-таки умирает, как и всё на этом свете. Как самая изощрённейшая ложь, она способна до гроба морочить нам мозги, заставляя покорно нести свой жизненный крест. А затем изначально предопределённый проигрыш и – «спи спокойно, братка!»