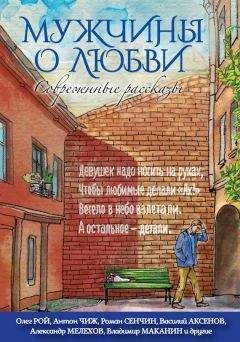– Вы меня обманули. Не помахали, как мы договаривались, – дрожащим голосом предъявила она. – Я чуть с ума не сошла.
Тогда-то и надо было менять место жительства, только я не придал должного значения этой сцене, да и привязался к моей эксцентричной хозяйке порядочно. Я извинился в самых изысканных и откровенно льстивых выражениях и на следующий день махал в два раза дольше обычного. Она уже за занавеской скрылась, а я все махал, наверняка ведь в щелочку подглядывает. После работы конфеты купил, гвоздики, шампанское. Роковая ошибка. Посидели, выпили, инцидент вроде загладился, я засобирался спать, а она схватила кувшин с водой и за мной в комнату. Кактус полить приспичило. Пожалуйста, я не против, только она кувшин до горшка с кактусом не донесла, а опрокинула мне на кровать, необратимо намочив место моего ночлега. Ох, ах, какая я неловкая.
Я уверил, что ничего страшного, на полу посплю.
А она мне:
– У меня кровать широкая, места хватит.
– Я храплю.
– У меня муж знаешь как храпел, тебе до него далеко.
– Я…
Она перебила меня поцелуем.
– Уже и пошутить нельзя! – задорно рассмеялась Елизавета Романовна, отлипнув от моих губ.
Я подхватил.
Мы захохотали.
Она толкнула меня в грудь.
Я хлопнул ее по плечу.
Она играючи коснулась моего живота. И не отвела руку. И придвинулась вся. И вниз полезла. И стала наглаживать, будто тесто раскатывала.
– Что, и пошутить нельзя? Пошутить нельзя? – твердила она, упорно смеясь и дергая пуговицы.
Я перехватил костяную руку.
– Пошутить нельзя? – захныкала она.
Я держал крепко. Только ее неожиданный визг заставил меня разжать хватку.
– Ты за кого меня принимаешь?!
– Елизавета Романовна…
– Я… пренебрегла всеми приличиями… я… не игрушка… скомпрометировать вздумал… вон из моего дома!
Не заставляя ее просить дважды, я стал кидать свои вещички, которых, к счастью, было мало, в сумку. Очередной месяц подходил к концу. Долгов за мной не было. Переночую в павильоне, сторож пустит, а там осмотрюсь, пора с этой сумасбродной старушенцией завязывать. Пока я собирался, она курила, презрительно присматривая, как бы я не прихватил что из фарфора. Думал, брать или нет фотоаппарат, решил взять. За последние недели не было и дня, чтобы я не фотографировал, и мои карточки уже хвалили на студии.
– До свидания, Елизавета Романовна, – сказал я с порога.
Тут она схватила себя за ушами и с треском рванула. К пальцам лип скотч. Она подтягивала кожу липкой лентой, маскируя эту косметическую уловку шарфиком и волосами. Шуршание скотча, поплывший девичий овал лица и ее злобное рычание поразили меня настолько, что я не мог пошевелиться. Бешенство старухи вылилось в слова. Она кляла меня на чем свет стоит, обзывала неблагодарной тварью, змеей, из ее рта вместе с ошметками помады летели неизвестные мне малороссийские проклятия, видимо усвоенные в пору обучения в Харьковском университете. Я был заворожен происходящим настолько, что не очухался даже тогда, когда она, отлепив наконец от пальцев скотч, разбила о пол горшок с кактусом, побежала в свою комнату, стала срывать со стен фотографии, скомкала, порвала и принялась швырять в меня. А потом вдруг бросилась мне под ноги, схватила и стала умолять не бросать:
– Я совсем умру одна! Ты не можешь так уйти! Кто тебя будет кормить?!
Я только поднимал повыше сумку, будто снизу плескали волны, способные намочить мои пожитки. Наконец, когда сознание вернулось ко мне, я не стал отцеплять ее от себя, не стал упрашивать прекратить истерику. Я просто сказал: «Я остаюсь».
Надо отдать ей должное – вопли и мольбы сразу прекратились, я подал ей руку, она встала на ноги и принесла извинения за свое поведение. Ту ночь я провел на полу рядом со своей мокрой койкой.
Несколько дней мы почти не виделись, она скрывалась в своей комнате, я пропадал на работе. А потом наладилось. Сначала аккуратно, как по первому льду, вернули совместные чаепития, затем я широким жестом возобновил прощальные помахивания. Вышел однажды из подъезда, остановился у памятника и помахал не оборачиваясь. Как Анна Маньяни. И сразу обернулся. И увидел, как занавеска заколыхалась. Фотографирование, не сговариваясь, решили не продолжать, остались, что называется, добрыми друзьями.
Зима уступила место весне, которая была так долгожданна, что пролетела совершенно незамеченной, и вот уже августовские ветры во всю подгоняли лето к новому сентябрю. Исполнился год, как я прибыл в столицу. К тому времени я без сожаления провалил вторую попытку поступления и познакомился с одной девчонкой, тоже приезжей. Она планировала выучиться на модельера, а пока временно работала ассистентом гримера. Не то чтобы она у меня первая была, но все равно что первая. Я от нее совершенным дураком делался. Она ко мне тоже очень благоволила, штаны-бананы сшила идеально по фигуре. Страсть, однако, угасла сразу, как только предмет моего восхищения покорился. Я почувствовал себя залихватски: стал озираться по сторонам, замечать других, превратился вдруг из тихони-лимитчика в пижона-соблазнителя. Недавно верный воздыхатель, я как-то сразу стал прожженным циником, загулял, как мне тогда показалось, довольно ловко, с другой – и тут моя вдруг забеременела. И я решил посоветоваться с Елизаветой Романовной. Не посоветоваться даже, просто рассказать. Мать бы меня запилила за неосмотрительность, а мне нужно было взвешенное мнение. После всего, что между нами было, я решил – лучшего исповедника не найти.
Вскоре за чаем представился удобный случай. Выслушан я был внимательно. Еще молодой человек. Впереди вся жизнь, в стране перемены, и скоро перед молодежью откроются такие перспективы, о которых старшее поколение и мечтать не могло. Елизавета Романовна расхваливала мой фотографический талант, говорила, что путь художника тернист, но славен и что не стоит спешить обременять себя семьей, не набравшись опыта, не сделав еще даже первых шагов на этом пути. Умело переплетая факты с лестью, Елизавета Романовна поселила во мне сомнение, точнее, уверенность в том, что место рядом с гением не может занимать беременная помощница гримерши.
Некоторое время я раздумывал над ее словами, говоря сам себе, что люблю… как же ее звали?.. люблю, в общем, ту девчонку и хочу, чтобы она была матерью моих детей, но решение уже жгло своей очевидностью. Вскоре, при первой же пустячной размолвке из-за несогласия, как провести выходные – гулять в парке или рвануть в Питер, мы рассорились, и я заявил, что должен о многом подумать. На следующий день мне хотелось извиниться и все забыть, про интрижку и разлад, но подружка моя сказала, что не хочет связывать свою жизнь с таким, как я. Я ответил, что сам давно хотел ей сказать о том же, пора разбежаться, а ей сделать аборт. Ни на какого модельера она с ребенком не поступит. Типа, я о ее будущем подумал. Даже кассетный плеер Sony продал. Чтоб на доктора, на лекарства и на все остальное хватило. Только зря продал, она ничего не взяла. Но попросила в больницу с ней съездить. Я еще гордился, что поступаю как настоящий мужик. Дело так быстро обтяпалось, я толком и сообразить не успел. Это была единственная женщина, которая от меня забеременела. Других случаев с тех пор не случалось. По крайней мере мне неизвестно. А имя из головы вылетело, совсем память ни к черту.
Когда в тот день я вернулся в свою комнату, Елизавета Романовна пила вино:
– Любимое вино Сталина.
Налила мне, подмигнула и опрокинула сразу весь бокал. И я хлебнул. Какая все-таки дрянь эти сладкие вина. Бабий вкус был у генералиссимуса. Если бы он пил сухое, коньяк, водку, ему бы многое простилось, но регулярно глотать эти сладенькие градусы…
– Сын пишет? – спросил я, чтобы не молчать.
– У меня нет сына, – ответила Елизавета Романовна.
И улыбнулась.
И зубы ее были черны.
– Мой сын родился мертвым в городе Ирбит, Свердловской области, второго октября сорок первого года.
* * *
Прошло больше двадцати лет. Союз распался, эстонцы, которых вопреки сомнениям, гасимым водкой, некогда покорял муж Елизаветы Романовны, вместе с другими братскими народами покинули Россию, разбежались кто куда, влекомые посулами соседей и доброжелателей. Кратер любимого бассейна Елизаветы Романовны закупорили храмом. Я так и не предпринял третьей попытки поступления, а целиком отдался фотографированию, которое вскоре принесло мне деньги и положение. С той ночи я ни разу не заглядывал в маленький дворик, стараясь побыстрее позабыть Елизавету Романовну, что мне вскоре удалось. И вдруг теперь, когда моя спутница набрела на притащенный в парк поваленный памятник, те далекие дни встали перед глазами с перекрученной резкостью.
Сославшись на головную боль, я навсегда отвез читательницу Ремарка домой, а сам поехал к Елизавете Романовне. Я вошел во двор, когда на город опустился вечер. Вместо памятника фонтан и фонари, вместо окна… Домик стоял на прежнем месте, но видом своим изменился. В нем теперь ресторан и клуб и окна второго этажа, в том числе то заветное, наглухо замурованы. Только очертания угадываются.