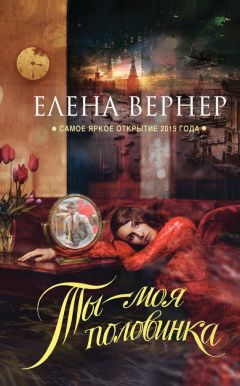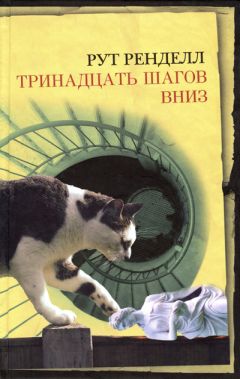В пять она отпустила секретаршу и осталась одна. Не считая тех, кто выходил через черный ход: закройщиц и швей в пошивочной.
Она не сразу узнала походку Валевской. Обычно та стучит каблуками, уверенно, напористо. Сегодня она шла неровно. Зашла в кабинет, бросила на спинку стула пальто, шляпку и шарф. Не открыв окно и не вставив папиросу в мундштук, стала чиркать спичкой дрожащими пальцами.
– Что, Режина Витольдовна? – Фарфоровая бледность легла не только на щеки Марины, но, кажется, на ее сердце.
Жадно затягиваясь, Режина подошла к столу, вытащила лист бумаги, перо и положила их перед Мариной.
– Сядь. Пиши.
Марина беспрекословно исполнила приказание. Застыла, глядя выжидающе и беспокойно.
– «Я, Марина Ивановна Карелова, прошу освободить меня от занимаемой должности закройщицы в Доме моделей номер 6 города Москвы». Дату поставь и подпись.
Марина отбросила перо, словно пчела ужалила. На глаза моментально навернулись слезы.
– Режина Витольдовна, за что? Я же ничего не сделала… Режина Витольдовна, милая…
– Ради бога, Марина! – чуть не в первый раз назвала ее по имени Валевская. – Только вот слез сейчас не надо. Мне уж в пору реветь, и то молчу. Вызывали меня.
– К-куда? – запнулась Марина.
– Куда надо. На Лубянку. Допрашивали.
Режина закурила еще одну папиросу, закашлялась, раздраженно открыла окно, выпустила дым и тут же воровато захлопнула раму обратно. Круто развернулась и наткнулась на обескураженный, недоуменный и испуганный Маришин взгляд.
– О господи, Мари, ты что, совсем не понимаешь, что творится вокруг? Газет не читаешь, шепот вокруг не слушаешь? Нас же истребляют, – зашипела Валевская тихо и яростно. Откуда-то взялся не заметный раньше польский акцент.
– Так это враги… – всхлипнула Марина.
– Бестолочь ты! Им всюду враги мерещатся. А вы все, такие же наивные и оптимистичные, сами на эшафот идете и даже головы не поднимаете. Стадо, бессловесные вы скотины. И я иду тоже, что уж тут… – усмехнулась Режина. – Враги… Тухачевский у нас вот в один день из героя в предателя обернулся, поди ж ты посмотри, чудо какое! А семья его, что, тоже? Нина? Она ведь тоже уже месяц как в тюрьме. Передачки ношу…
Марина ахнула.
Сама она Нину Евгеньевну, жену легендарного маршала, видела только раз, когда та приходила к Валевской заказывать платье для званого вечера у Ворошилова. Невысокая, с волнами каштановых волос и тонкими ключицами, в бирюзовом шифоновом наряде она казалась красавицей, диковинной нездешней птичкой. Кажется, они с Режиной знали друг друга давно и были чуть не подругами. И теперь она в тюрьме? Как же так?
– Как же так? Ее ведь, наверное, в заговор не посвящали… – все не могла взять в толк Марина.
– Очнись. Нет никакого заговора и не было! Но только это уже ничего не меняет. Поэтому пиши заявление, собирай вещи и уходи. И никогда больше не возвращайся.
– Но почему именно я, Режина Витольдовна?!
Валевская вдруг стала как-то меньше, ниже ростом. Глаза у нее ввалились. Она подошла и обняла свою Мари, крепко, остервенело.
– Потому что ты у меня единственная. Если я и хочу кого-то спасти, то только тебя. Себя бы хотела, конечно, да уже не получается. За мной придут, Мари, может быть, сегодня ночью, может, завтра. Не простят – ни как я себя вела сегодня там, ни дружбу с Ниной, ни происхождение мое горемычное. А у тебя вся жизнь впереди. Устроишься в «Мосбелье», выплывешь как-нибудь… Вся жизнь еще впереди, да.
– Нет, я от вас не отрекусь! – взвилась Марина.
– И у тебя Коля… – тихо добавила Валевская. Марина первый раз в жизни видела ее плачущей, и тоже заплакала. Режина вновь обняла ее, вытирая свои и ее слезы вперемешку, и усадила обратно за стол: – Пиши, доченька, пиши.
После ареста Режины Марина, несмотря на ее запрет, попыталась добиться правды. Коля, не желавший оставлять ее одну и не смевший ничего ей запретить, сопровождал ее в очереди, переминавшейся во дворах Лубянки, сменял, когда позволяло время, отправлял спать домой. Очередь раздавленных людей, тысячерукая, тысячеглазая, похожая на древнюю мифическую гидру, стояла во дворе тюрьмы день и ночь. Иногда ее разгоняли, но она, раздробленная на кусочки – как гидра же, снова восстанавливала свою цельность. Недалеко – совсем рукой подать! – беспечные, счастливые советские люди праздновали день рождения Революции. Она в этот год была юбиляршей.
Марина попыталась узнать, в чем обвиняют Валевскую, где ее содержат, можно ли передать вещи или деньги.
– Вы ей кто?
– Я… знакомая…
– Не положено, следующий!
Вот и все. Сколько раз потом корила себя Марина, что не сказала «дочь».
– Ты бы все равно ничего не изменила. Думаешь, они там не знают, кто кому кем приходится? И есть ли у Режины Витольдовны дочь? – качал головой Коля. Но втайне от Марины все равно сходил в страшное место еще раз, прорвался, назвался сыном Валевской. Ему ответили, что она выслана. Куда – не сказали.
Пространство все сжималось, пахло безумием – у него оказался свой, какой-то особенный металлический запах. Одной ночью воронок увез мужа Тони из 50-й квартиры, другой – мужа и отца квартуполномоченной Федосюк. Коля не стал говорить Марине, что арестовали и кое-кого из их больницы. Не хотел тревожить.
Ночами он прижимал к себе жену иначе, более ревниво, с отчаянием. Она отвечала на ласки с еще большей готовностью. Засыпали они, накрепко обнявшись, неделимые.
Несколько раз навещали Светку с маленьким Ванечкой. Становилось страшно от одной мысли, что эту маленькую, легкую жизнь могли оборвать еще до рождения, втайне, как обрывали не одну до этого. Марина смотрела в детские доверчивые глаза, трогала крохотные пальчики и мечтала, что родит такого же Коле. Нет, не такого же, в сотни раз прекраснее! Он будет самым красивым и самым счастливым мальчиком на планете!
Коля в ответ на эту мысль, промелькнувшую в ее глазах, кивнул: «Конечно, будет, любимая».
В «Мосбелье» Марину приняли. Правда, она скоро поняла, что ее эскизы, идеи и новшества никому тут не нужны. Она просто раскраивала куски мадаполама, бязи, сатина и ситца по одинаковым лекалам: утвержденных моделей женских комбинаций было всего восемь. Впрочем, и творить ей больше не хотелось. Всем своим мастерством Марина считала себя обязанной Режине. А Режины больше не было.
Одной особенно темной ночью, когда лужи на улице схватывались хрустким льдом, Коля и Марина не спали, лежа в коконе тонкого одеяла.
– Ты знаешь, Мариш. Я никогда тебе не говорил этого вслух. Ты и сама всегда знала… Что я люблю тебя больше своей жизни. Больше солнца и мамы. Ты – единственная моя. Жизнь моя. Когда я тебя увидел, я сразу это понял, как током дернуло. Если вдруг что…
Марина затрясла головой, стала мелко целовать:
– Тихо, замолчи. Не говори, пожалуйста, Коля!
– Если вдруг что, Мариш… Ты только не унижайся ни перед кем, прошу тебя. Моя любимая никогда не должна унижаться.
За ним пришли около трех ночи, в середине декабря, в самый глухой час. Их было двое, неприятных мужчин в штатском. В одном из них чета Кареловых узнала Никиту, бравого Светиного «физкультурника».
Марина не верила в происходящее. Она то кидалась к Никите, умоляла вспомнить, кто они, умоляла оставить их, уйти. То пыталась повиснуть на шее у Коли, и ее приходилось отдирать от него насильно. То собирала вещи в чемодан и все никак не могла понять от ужаса, что же туда класть. Слез не было, глаза сухо жгло.
«Какие у нее огромные глаза… Смотрит не мигая. Наверное, глазам уже больно. Моргни, солнышко, станет легче… Нет, не моргает. Это от страха», – вздыхал Коля с любовью. О происходящем он как-то не думал – будет еще время подумать. Главное в эти последние минуты – наглядеться на нее, свое сокровище, самый дорогой подарок, преподнесенный ему жизнью. Жаль только, что она так испугана. Его Мариночка не должна ничего бояться. И ее никто не должен обижать. Даже эти сволочи.
Коля посмотрел в холодные Никитины глаза. В них не было ни капли переживания, скорее скука.
– У твоего сына твой цвет глаз, твой нос. Ты подлец.
Никита коротко ткнул Коле в зубы кулаком. Что-то хрустнуло, Марина закричала.
– Тише, гражданка. Не будите честных людей, – упрекнул второй чекист. Марина бросилась ему в ноги:
– Забирайте и меня тоже. Я с ним!
– Тебя позже, – буркнул Никита.
И тут Коля обезумел.
– Сволочи! Гады! Оставьте ее в покое, она ни в чем не виновата! Не трожь ее своими лапами, урод! Мерзость! Не трогайте ее! Она не виновата!
Началась неразбериха, Марина все же кинулась к Коле, чекисты отшвырнули ее к шкафу, грубо скрутили Колю и поволокли. Никита бросил через плечо:
– А елочный шар с Иосифом Виссарионовичем кто в помойку сунул, а?
Всю ночь Марину лихорадило. Болели то почки, то селезенка, резко, схватками, как от ударов. Сердце больно стучало в грудную клетку. Иногда звенело в голове, будто сапогом пинали.