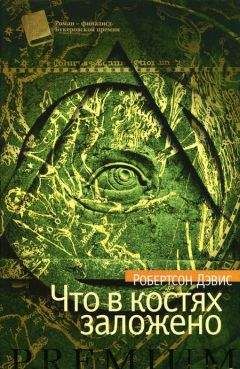– Но все равно, как ты успеваешь выполнять столько работ?
Шура потер ладонями и возвел глаза к потолку, как будто намеревался вычитать оттуда подсказку.
– Для начала – никуда не спешу. Не я для работы, а работа для меня – вот мое правило. Распределяю усилия, чтобы не уставать. Нельзя позволять загонять себя ради денег или мифических достижений. А работаю только для наслаждения. Приучил себя рано вставать, в половине пятого утра. И ложиться в восемь – половине девятого. Есть, правда, секрет. – Лантаров при этих словах приоткрыл рот и подался вперед, опершись руками о скамейку. Ответы приводили его в такое недоумение, что он даже забывал о боли и необходимости всегда думать о щадящем положении своего тела. Шура же заговорил заговорщически, и молодой человек так и не понял, серьезно это сказано или в шутку. – Я выучил закон сохранения энергии, научился ее накапливать и рачительно использовать – не распыляться. Заметил – я утро использую исключительно для нематериального? Для размышления, получения знаний, записей. И никогда – для денег. А энергия – это, Кирилл, то добро, которого Бог каждому отмерил сполна. Но многие просто рассеивают ее в разные стороны, а затем падают, обессиленные. Но каждый человек обязательно должен трудиться, что-то производить полезное. Как говорится, делать богоугодные дела. Это, кстати, напрямую связано со здоровьем…
– Вот-вот, – подхватил Лантаров, – я, когда наблюдаю за тобой, думаю, что ты занимаешься исключительно своим здоровьем.
– Шутишь?! – у него на лице появилось слабое подобие удивления. – Разве можно жить только для здоровья? Это же форменный маразм! Абсолютно бессмысленно для разумного существа! Наоборот, это здоровье нам необходимо для жизни. Посмотри, как правильно организованы пчелы или муравьи – все их действия предельно сконцентрированы. Ну, а когда приходит час исчезнуть, они уходят молча и достойно. Людям следовало бы учиться у природы. А здоровью я уделяю время потому, что у меня с медициной нелады – привык полагаться на себя. Да и приятно чувствовать себя здоровым. И, главное, это необходимо для качественной реализации себя как развитой земной сущности.
– Это как? – Лантаров в недоумении сложил брови полумесяцем.
– Помнишь, я говорил тебе о миссии каждого земного обитателя. Фактически без миссии наше пребывание тут, в этом мире, не имеет смысла.
– А-а, – протянул Лантаров, – я-то вначале подумал, что ты удалился в лес… ммм… из протеста или… – тут Лантаров немного помедлил, – из вредности. Ну, чтобы создать какое-нибудь альтернативное учение о здоровье. Я слышал, был такой мужик нечесаный и босоногий, проповедовал, у меня соседка в эту секту ходила.
Шура громко и раскатисто рассмеялся, впервые так явно выражая эмоции.
– Ну и что ж, соседка? Оздоровилась?
– Да вряд ли… Чего-то там обливалась, да видно, мозги себе простудила… Помню, болела чем-то долго…
Шура вдруг посерьезнел, черты его лица стали ярко выраженными.
– На самом деле, все учения давно созданы. Еще пару-тройку тысячелетий тому назад. На долголетии мы с тобой уже вроде бы поставили точку: не важно, сколько ты, в конце концов, проживешь лет. На мировой системе координат какие-то сто лет отдельного человека – меньше точки. Важно – что ты в этой жизни успел сделать. Можно прожить тридцать три и оставить потомкам по себе божественный свет надежды, а можно дожить до восьмидесяти семи и дослужиться до генерала, как, к примеру, основатель и главный надсмотрщик сталинских гулаговских лагерей, не помню, как его… – Шура, скривившись, махнул рукой, а затем, сосредоточив лицо, добавил: – Но, можно вообще прожить жизнь растения…
– Ну да ладно, шут с ним, с лагерным. Первым ты, конечно, Иисуса вспомнил. Но ведь не всем выпало быть святыми!
– Что значит: выпало – не выпало?! Я такого слова не понимаю и не принимаю. Каждый из нас сам решает, чем жить, каким смыслом наполнить пребывание в мире. Вся наша жизнь – нескончаемая серия испытаний, возможностей и открывающихся шансов, результатом которых становится осознание и исполнение миссии. Правильно, не всем быть святыми. Но избрать созидательный путь, который указывает свободный, не скованный дурными стереотипами разум, можно всегда.
Лантарова подкупали откровенность и открытость, с которыми Шура вел с ним беседы. Он не позировал, не пытался выстроить из себя монументальную личность, и искренность порождала совершенно новый уровень рассуждений. Он не боялся говорить все, что приходило в голову. И это располагало к дальнейшему разговору.
На следующий день, когда после позднего завтрака и полуторачасовой работы за столом Шура засобирался ехать к Евсеевне, Лантаров доковылял к нему на костылях. Ему почему-то не давала покоя высказанная накануне мысль – это казалось удивительным, потому что раньше такие вещи его вообще не беспокоили. Теперь в голове у него зародилось сомнение.
– Слушай, ты вот толкуешь: миссия, миссия… А вот не могу понять, на кой черт она нужна?!
– Тут все проще. Все начинается с того, что мы смертны и рано или поздно отправимся в иной мир. Но нам не хочется умирать, согласись.
– Ну, в общем, да… – Лантаров почесал затылок, слова собеседника звучали убедительно. Он просто никогда об этом не думал – смерть в его восприятии существовала в виде какого-то расплывчатого черного пятна, которое находится где-то очень далеко от него, и неизвестно, когда коснется.
– Я думаю, я даже уверен, что ни одно живое существо не приходит в этот мир зря. Каждая клетка пришла сюда учиться и учить. Так вот, – продолжал Шура, прищурив глаза, – то, что умрем, нас тайно или явно беспокоит. Кого больше, кого меньше. Но однажды каждый живущий задает себе вопрос: но если так устроен мир, то зачем, почему я тут? И что останется после меня, кроме кучки праха? И человек все равно взывает о бессмертии, молится о том, чтобы не быть преданным забвению… Из-за этого он начинает делать что-то осмысленно серьезное. Строить города, создавать уникальные архитектурные формы, открывать школы, больницы, учить, лечить, заниматься наукой, писать картины, музыку, книги… Да мало ли форм?!
Последние слова Шура говорил проникновенно, почти страстно, и Лантаров даже решил, что впервые видит его таким взволнованным. Ему показалось, что этот человек перед ним, простой мужик с большими узловатыми, мозолистыми руками, говорит так, потому что пережил нечто страшное.
– И… – тут Шура запнулся и, как он обычно делал, когда набегала тень волнения, с силой сдавил одной ладонью другую у себя перед грудью, – и это мужество действовать и творить, несмотря на осознание кратковременности существования, и есть миссия. Направление вторично, главное, чтобы оно было созидательное и наполненное любовью.
– Ну, я если я попросту не знаю, какая миссия может быть моей. Тогда как?
– Очень просто. Это нормально, потому что через это подавляющее большинство людей проходят. Может быть, только святые знают свою миссию с самого начала, да и то я в этом не уверен. – Шура добродушно усмехнулся, он опять обрел утерянную на одно мгновение невозмутимость и стал толстокожим, как бегемот в африканской саванне. – Ищут многие, и когда человек начинает искать миссию, это означает, что он уже начал меняться, что уже он иной, чем прежде. Так что получай знания, читай, впитывай, смотри внимательно вокруг. Но главное – думай, размышляй. Если всерьез задумаешься над миссией – ее осознание обязательно придет. Причем не так важно когда. Придет вовремя. Когда созреешь…
Шура откинул плечи, а затем глубоко вздохнул, посмотрев вдаль, за косматые макушки сосен за домом. Он будто колебался, не добавить ли еще чего-нибудь.
– И еще, знаешь, вот что. – Он посмотрел в глаза своему молодому другу, и Лантаров увидел в них внезапно налетевшую тень печали. – Не стоит, нельзя роптать и сомневаться. Понимание истинной миссии может измениться в процессе жизни. У меня было именно так. Мое понимание вызревало слишком долго, но все-таки это произошло. После осознания подлинных ценностей. Я свою миссию осознал только после сорока лет, но главным считаю то, что она вообще появилась в моей жизни. И она появилась, как спасение. Как избавление от боли и страдания в виде тяжелой болезни. Так, что, считай, что я в твоей шкуре побывал. Но с тех пор я зажил счастливо.
– Вот как… – только и произнес Лантаров.
А Шура вышел из дома и побрел к машине; и по его склоненной в раздумье голове, по скатившимся плечам и еще многим другим неуловимым признакам Лантаров понял, что признание это далось лесному жителю нелегко.
Действительно, сложнее всего Лантарову было справиться с тем, что Шура называл позитивным мышлением и воспитанием целостного мировоззрения. Фактически речь шла не просто о коррекции отношения к мирозданию, но о контрреволюции в голове, переходу к иному взаимоотношению со всей окружающей средой. Этот беглец от цивилизации все время повторял, что это не его система, не набор средств для реабилитации больных, но просто образ жизни, ведущий к гармонии и равновесию между окружающей средой, человеческим телом, его разумом и его духом. «Кирюша, это мышление, позволяющее расчехлить сознание. Так мудрые люди жили всегда. Я – не новатор. Планета сейчас трещит по швам, и оттого число возвращенцев к природе выросло до невообразимых масштабов», – как-то заявил он, разъясняя одну из своих запутанных идей. Лантарову нравилось, что с ним возятся, ему импонировала причастность к какому-то небывалому эксперименту, как минимум, отвлекающему от боли и непреодолимого одиночества. Но более всего подкупала его откровенность Шуры – ее природу, как, впрочем, и саму идею своего пребывания подле него – он понять не мог, как ни силился.