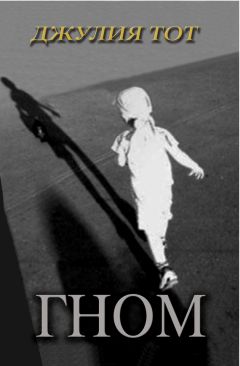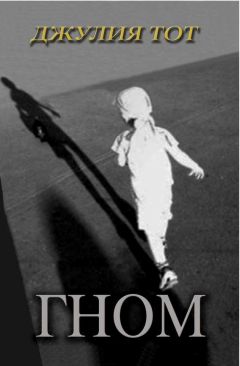– Сереж…
От неожиданности – друг назвал его по имени впервые за все время их знакомства, Сергея окатила горячая волна испуга. Но успокоившись так же быстро, он опять смотрел на Диму, словно моля о чем-то, и тот продолжил, боясь, что, как ребенок, заплачет от этого взгляда:
– Сереж, я слетаю к матери, в миллионерию ее, но не думаю, что душа моя свободная, но изначально советская, примет образ их распутной жизни, а они – мой – жиголо для мамы. Так что я в Союз вернусь через месяц-два, квартира-то у матери в Питере осталась. И если ты со своими к тому времени до драки дойдешь, приедешь жить ко мне. А если нормально все будет у тебя, поменяю я квартиру эту на Москву. В общем, по всякому, рядом будем.
От такого неожиданного решения Димы в голове Сергея замелькали картинки жизни – настоящей, не взаперти, и веселые маленькие хрюшки в его душе, как в детстве, завизжали от счастья, казалось распихивая друг друга, чтобы он понял, какая из них счастлива за него больше.
Приехавшему за сыном в колледж, Глебу было тяжело смотреть на прощание сына с единственным – он полностью отдавал себе в этом отчет – близким для того человеком. Он смотрел, как два взрослых, выделявшихся из любой толпы, молодых человека, пытаясь не заплакать, стояли, уткнувшись – смешно со стороны – друг в друга, для чего Диме пришлось согнуться в кольцо, но он явно не ощущал никакого неудобства. Глеб, никогда не имевший друзей – в понимании этих двоих, – не проходивший через горечь расставания с единственным понимающим тебя на всем свете существом, почувствовал, как слезы ни то обиды – что не он самый близкий для сына, ни то от действительно понимания трагедии момента, схватил последний Сережин чемодан и спешно сел в машину, из которой он старался не смотреть в сторону сына и его друга, не думать о вчерашнем разговоре с женой, которая была напугана, как и он, возвращением в Москву, совместной жизнью с Сережей, их отношениями и будущим вообще, и о том, что успокоить жену ему было нечем.
Сергей не знал, сколько времени он сидит у этого – всегда бывшего для него слишком большим – противно-дорого лакированного обеденного стола, то проживая заново пять последних ужасных лет жизни с ними, то просто глядя на фотографию родителей без мыслей и чувств.
В первые месяцы после возвращения из Швейцарии они пытались найти потерянные понимание и любовь – каждый из троих – по своим правилам, но одинаково надеясь при этом, что Дима Штурман вернется в Союз, избавив их от этой необходимости. Никто в этой семье не испытывал искренней привязанности – родители исполняли свои обязательства перед своего рода социальным калекой – сыном, он был вынужден подстраиваться под них, не имея никакой иной возможности выжить.
Отец помог ему поступить на заочное отделение филологического факультета – со сдачей экзаменов не в одно время со всеми, в присутствии только экзаменаторов, и возил сына на экзамены и зачеты, которые Сергей сдавал, как правило, в один-два дня – просто потому, что было непросто собирать только ради него каждый раз преподавателей. Он был благодарен отцу – Сергей пытался заставить себя хотя бы раз доехать до университета на метро – это было всего несколько остановок, но при мысли, сколько сотен человек будут оглядываться и разглядывать его по дороге как несчастное чудовище, приковывала его намертво к квартире, не позволяя пошевелиться какое-то время даже внутри своих стен.
Родители возили его с собой в театры и на выставки, если знали, что знакомых там наверняка не встретят, зимой – кататься на горных лыжах, что Сергей обожал. Только в заснеженных горах он мог наслаждаться катанием и быть относительно далеко от людей, а в горнолыжном костюме большинство катающихся, принимая его просто за ребенка, не прилипали взглядами. Все остальное жизненное время он учился по университетской программе дома. С наступлением ранней весны, когда первые сильные лучи солнца заставляли снег громкими ручьями стекать по кривым улицам московского центра, Сергей вытаскивал на балкон книжки-тетрадки и не вылезал оттуда до поздней ночи. Он забывал иногда о книгах, разглядывая жизнь города со стороны, почти до остановки сердца желая хотя бы на один день стать, как все, и прожить его, как люди там живут каждый день.
Эта пластиково-искусственная жизнь иногда надоедала ему до сильных, пульсирующих головных болей, но заставить себя попробовать выйти на улицу и жить иначе, он не мог, видя результатом только трагедию несбывшегося опять чего-то – как однажды уже разбилась красивая мозаика с картинкой высокого дипломата Сергея Матвеева.
Разговаривать с родителями у него не особенно получалось – часто, не подумав, рассказывая о чем-то, случившемся с ними, они спрашивали его мнения, но он отвечал почти всегда одно и то же, если речь шла не о научных или академических знаниях: «Как я вообще что-то могу сказать, я жизнь по телевизору и с балкона вижу, откуда я знаю?» – и уходил в мир своей комнаты с балконом, оставив родителей смущаться очередной их нетактичности наедине друг с другом.
Сергей, подняв веки, почувствовав только сейчас, что они набухли от незамеченных им слез, взглянул на красивую пару в рамке с черной ленточкой. Ему было странно не чувствовать боли от потери их и плакать непроизвольно, видя их живыми в воспоминаниях, и обидно так и не узнать, любили они его все эти годы, или просто терпели. Он откупорил стоявшую перед ним весь день бутылку водки и налил полную рюмку, почувствовав необходимость залить ненависть к себе из-за реакции на звонок, разбудивший его ночью. Услышав, что родители погибли, он думал только об одном – как он будет их хоронить, как они могли быть так неосторожны, зная, что он не может, не сможет… Сергей проглотил водку залпом и, почувствовав тепло в груди, от которого был уже в состоянии пошевелиться, спрыгнул со стула и, обойдя длинный стол, взяв фотографию родителей, убрал ее в ящик кухонного стола, чувствуя вину перед ними – их похороны полностью устроил друг отца, забрав Сергея из дома и привезя его домой с кладбища, не вынуждая быть долго на глазах бывших коллег, каких-то родственников, от которых он явно пытался Сергея огородить, и от поминок вообще.
После всех похоронных мероприятий, приняв с благодарностью обещание все того же друга семьи помогать ему во всем только по одному его звонку и просьбе, оставшись сейчас в квартире один, Сергей прошел в комнату родителей, открыл маленький сейф в шкафу. Он понятия не имел, сколько денег может быть дома, а все, что вне дома – было всегда закрытой темой – работой отца, и он понимал, что никто ему помогать не станет – звони он, или даже ползай на коленях. Открыв дверцу, он увидел несколько коробочек – мамины побрякушки, и несколько стопок рублями, несколько – долларами. Забрав все деньги из сейфа, разложив их на противно-здоровом, но для этого удобном столе, Сережа начал их пересчитывать, чтобы понять, насколько их ему хватит. Он попытаться придумать, на что он будет жить, когда они кончаться, когда вдруг от ужаса понятого осел на пол. Он вдруг впервые с момента смерти родителей осознал, что до этого в холодильнике была еда, за квартиру платили на почте они, да и все остальное – тоже делали они. Как он будет покупать еду и делать все просто самое необходимое? Он понял, что ему придется ходить в магазины или он умрет с голоду, ходить на почту – или в квартире не будет света и воды. Перечислять дальше даже в воображении он просто боялся и судорожно начал придумывать, как дети придумывают замысловатые игры с сюжетом, как он сможет делать все это так, чтобы люди его не замечали.
Сергей поспешно прошел в прихожую, открыл шкаф и начал поочередно выкидывать на пол висевшие в нем вещи, пока не нашел куртку с капюшоном и, отложив ее в сторону, запихнул все остальное одной кучей обратно в шкаф. Стоя перед зеркалом, надел куртку, натянув капюшон на лицо, насколько это было возможным, и попытался посмотреться в зеркало. На улице был вечер и в прихожей, куда свет сейчас попадал только из комнаты, стоял полумрак. Почти с радостью, в зеркале он увидел мальчика без лица в куртке с капюшоном. Сергей поспешно надел ботинки, выдернул из двери ключи и вышел из квартиры – впервые один, но наверняка зная, что никто не поймет его карликовости за темнотой улицы и тенью капюшона. Он шел посмотреть, во сколько вечером закрывается магазин на первом этаже их дома и как работает почта, на ходу додумывая, что зимой темно до восьми утра, и он может выходить из дома и утром.
Вернувшись в пусто-тихую квартиру, откинув капюшон назад, Сергей несколько минут стоял, пытаясь немного заглушить биение сердца, казалось, пытающегося разорвать ударами грудную клетку и оглушить его. Уже в состоянии стянуть ботинки и пройти в комнату, он подумал о пустом, скудно освещенном магазине. Стоя перед его грязной витриной десять минут назад, он представлял, как он войдет в него и ему придется снять капюшон, как продавщицы заорут от ужаса или начнут отпускать идиотские шутки и по базарному хохотать. Придумать что-либо во избежание этого – он не мог и решил, что будет ходить только в магазин на первом этаже и на одну и ту же почту, чтобы сложился маленький круг людей, которые через некоторое время привыкнут к нему и не будут ни удивляться, ни спрашивать, ни смеяться.