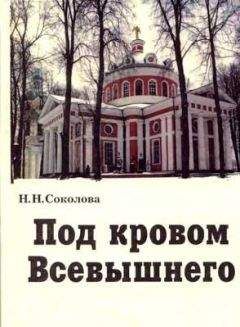Вера вздрогнула, так все вдруг стало ей ясно. Вот отчего…
Тогда начальник выпроводил очкастую обратно в медсанчасть и попросил свою старуху-секретаршу принести ему в кабинет два чая с бутербродами. Пока та все принесла, боров уставился на Веру и, облизнувшись, кратко произнес: «Не дашь – сядешь!»
Вера вскочила и убежала. А дальше началась «посадка за прогул по законам военного времени».
Пелагея, как услышала, что Веру арестовали, что будет суд, что Вера беременная, пришла к ней на свидание, опустила натруженные руки свои в подол, сцепленными узловатыми пальцами вниз, и сказала: «Я честно прожила в девушках 30 лет. Вас родила от законного мужа и в срок. На заводе на одном месте проработала с 18-го года, и нет на мне ни одного прогула, ни одного пятна; на трудовом фронте медаль вот дали. На ноге “рожа” не проходит от голода. А ты, проститутка, вся в отца своего пошла! Будь же ты проклята!» – и заплакала, и пошла домой, больше не глянув на дочь. «Да, мама, лучше бы меня тогда разбомбило на пароходе. Но только одну. Коля бы пусть спасся» – прошептала ей вслед Верочка одними губами.
В настоящую тюрьму Вера не попала, но в «предварилке» просидела несколько месяцев. Вынесли какое-то порицание, учитывая, что ей нет еще 15 лет, и что предполагаемый отец ребенка сражается на передовой (Володе туда написали, и он умолил свое начальство письменно подтвердить, что ребенок его, что Вера является его фактической женой и он распишется с ней сразу, как только ему дадут увольнительную). Он еще отдельно написал своей матери и просил взять Веру к себе от «тети Поли» и помочь девочке во всем.
Учли также, что у Вериной матери беспорочная рабоче-крестьянская биография и медали «За доблестный труд» и «За оборону Москвы», и что отец Веры, будучи непризывным участковым милиционером, сам записался на фронт, доблестно сражался на передовой и находится в настоящее время на излечении в госпитале под Ленинградом после ампутации левой руки. Помог и «вертухай» Свириченко по своим каналам. И Верочку выпустили.
Часть 10. В деревню, в глушь…
Домой она не пошла, к матери Володи – тоже. Она устроилась на работу в госпиталь рядом с домом, санитаркой-уборщицей в хирургическое отделение, и стала жить у подруги Капы, в ее квартирке на чердаке.
Капкина семья не эвакуировалась, потому что никто и не предлагал. Старый отец ходил на свою работу и не попал под призыв по возрасту. Мать как работала уборщицей в здании ЦСУ, так и продолжала. Капа была нянечкой в большом госпитале на Басманной и там же по вечерам училась на медсестру.
У Капы была старшая сестра, Тамара, но она давно уже вышла замуж, жила с тех пор отдельно, где-то под Москвой, и не очень-то хотела общаться с родными, а особенно с отцом.
Вера пришла к Капе домой уже без беременности. Ребенку так и не дали родиться. На шестом месяце произошел выкидыш, была девочка. Веру отвезли тогда в тюремную больницу и почистили, выдав справку. Поговаривали, что в тюрьме она, якобы, прыгала с высокого подоконника, вот и «скинула».
Вера стала другой, очень взрослой и по-настоящему, а не по-детски, красивой. На внутренней стороне левой руки, от сгиба локтя до подмышечной впадины, чудесным крупным ее почерком с характерной витиеватой заглавной буквой «Л» синими чернилами навсегда, по конец ее жизни, было наколото в одну некрупную строчку: «Люблю брата Колю». Распухшую и долго не заживавшую эту руку Вера сначала перевязывала бинтом, потом просто постоянно прижимала к телу, и это вошло у нее в привычку.
А Володя «пал смертью храбрых» в том же году, так и не увидев Веру.
В сумке Пелагеи постоянно находились два солдатских треугольника.
Один – от супруга родного Степана Ивановича с просьбой за все его простить, написанный медсестрой из госпиталя под его диктовку, перед ампутацией руки, за полчаса до операции.
Другой треугольник был из военной части Володи, отправленный в Москву незадолго до его гибели, с просьбой к родителям Веры разрешить ей расписку «до достижения шестнадцатилетнего возраста» и записать его, Владимира Петровича Соколина, как отца будущего новорожденного.
Два этих письменных свидетельства мужской любви долго согревали душу Пелагеи, пока совсем не истерлись в прах, да так и задевались куда-то в вытертых недрах старой сумки.
* * *
Брат Коля то и дело прибегал наверх к Капе и просил Веру вернуться к ним с матерью. Сестра не соглашалась. Но через некоторое время к Капе приехала старшая сестра Тамара. Тамара недавно овдовела, муж ее, как и у многих, был убит на фронте, и жить ей одной стало очень трудно.
Вера вздохнула и вернулась к своим.
Вскоре Капе надоело «учиться на медичку и возиться с ранеными», и она устроилась на работу к сестре Тамаре, которая, при помощи сослуживцев погибшего мужа, стала официанткой в офицерской закрытой столовой на улице Кирова. Девушку Капу взяли туда же посудомойкой.
Вера продолжала работать санитаркой. В выходной с утра и два раза в неделю по вечерам Капкина Тамара тоже подрабатывала медсестрой, и в том же госпитале, расположенном в здании Колиной бывшей школы № 645 в переулке Стопани, где работала и Вера.
Безрукий отец вернулся и стал опять работать в милиции. Когда он пришел домой, то, ни с кем не здороваясь, сразу спросил: «Вера где?» Колька помчался к Капе и привел Веру. В эту ночь вся семья была в сборе и улеглась спать дома: мать на кровати, Колька на диване, отец – на полу на шинели, а Вера – на старом Полькином сундуке с «приданым». Наутро отец проснулся и сказал, что уходит от жены «насовсем».
«К рыжей своей пойдешь? Она тебе и другую руку оторвет, нужен ты ей больно, старый да инвалид!» – плюнула Полька в сердцах прямо на пол и ушла на завод, даже чаю не попила. «Какой же я старый, мне и сорока еще нет!» – возмутился было Степан, но все-таки ушел жить к своей Рыжей.
* * *
Вскоре по радио заговорили пободрее, о победе под Сталинградом, о разгроме немцев на Курской дуге, затем и об освобождении от них русских городов. Тулу тоже освободили, и все были рады, улыбались окаменевшими и забывшими улыбку ртами.
Однажды, незадолго до конца войны, Вере тогда было уже 17 лет, мать ее, Пелагея, примчалась на капкин чердак самолично и стала звать Веру немедленно идти домой. «А что случилось-то, пожар, что ли?» – «Да иди ты скорее, отец твой тоже к нам пришел!» – только и сказала Поля. Вера подумала, что мать так возбудилась из-за прихода отца, и спокойно пошла домой.
Там, за «праздничным» столом с селедкой и водкой, рядом со смущенным Степаном, восседал Боров – начальник типографии. Вера побелела и схватилась за дверную ручку, намереваясь убежать. Полина оторвала ее от двери и выпихнула в середину комнаты, сказав, расплываясь в умильной улыбке: «Вот, гражданин начальник сватать тебя пришел!» – Видя, что до Веры все еще «не доходит», уже жестче повторила, проглотив улыбку: «В жены тебя брать, дура, понимаешь?!» – «Но… но…» – начала было Вера. – «Занокала, вертихвостка, давай лучше соглашайся, пока человек не передумал!»
Тут не выдержал брат Николай: «Мам, да ведь гражданин-то старше нашего отца, мам!»
Папаша Степан Иванович засмущался и выпил вдруг рюмочку один, «пропустил», что называется, а вернее, «не пропустил». А Боров произнес торжественно, держа свою полную рюмку на весу: «Простите меня, товарищи! Так трудно мне было! Разве не знаете все вы, что есть статья, а я-то ее наизусть вызубрил, как партийный устав, про то, что начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в прогулах без уважительных причин – сами привлекаются к судебной ответственности. Ладно, Верунчик, люблю я тебя, а кто старое помянет – тому глаз вон!» – и уж хотел он было выпить, как вдруг Вера подошла поближе к столу, приостановила его руку, взяла себе тоже стаканчик и налила в него водки до краев. И под одобрительные слова Борова: «Вот это – по-нашему, это – по-русски!» – выплеснула водку прямо ему в глаза, развернулась на каблуках и спокойно вышла вон.
Когда дверь за ней захлопнулась, раздался дикий вой Борова, визг мамаши и сдавленный хохот выскочившего из-за стола Кольки, тоже сразу бросившегося в коридор.
Навстречу Вере, по коридору, по направлению к комнате Пелагеи, медленно двигался приглашенный на «сватовство» сосед дядя Паша, на костылях после ранения. Сестра и брат чуть не сшибли его, отчего Колька прыснул еще сильнее, и проскочил на кухню, а потом хлопнул дверью «черного хода», убежав во двор, а Вера, вся дрожа, с трудом проговорила: «Спаси меня, дядь Паш!» Тот сказал, сразу все поняв: «Иди быстро к нам в комнату, и пусть Нинка закроется на ключ. А я потом постучу вам в стенку, когда все успокоится».
Вера впрыгнула в комнату к Нине, та заперла дверь на ключ. Неизвестно, что там было дальше, за стеной. Вера не любила тетю Нину и вскоре тихо удрала от нее опять к Капке. По дороге она услышала в коридоре, приглушенные дверью их комнаты, но все равно громкие визгливые причитания своей матери: «За что она, сука проклятая, на мою головушку навяза-а-а-лась!»