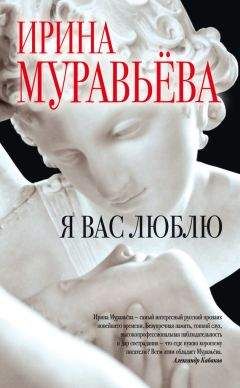Доктор Лотосов вдруг обнял Таню за плечо, прижал к себе и поцеловал в уголок глаза.
– Ничего дурного не случится с вами… – пробормотал он. – А буду я жив или нет – безразлично… В огне не сгоришь и в воде не утонешь… Ты только не плачь, моя девочка.
Она не заметила, что слезы сами текли из ее глаз, и почувствовала, что плачет, только когда отец обнял ее. Но от того, что он, утешая ее, вдруг так просто сказал о возможности своей смерти, у Тани сжалось и заныло сердце.
Она укоризненно взглянула на него из-под платка и нахмурилась.
– Не хочу, чтобы ты так… Мы вместе всегда, никогда мне не говори… – прошептала она.
– Не бойся, не бойся, – еле слышно отозвался отец. – Ко всему нужно быть готовым. Ты взрослая, сын у тебя…
Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословлять вас, отвращая каждого от злых дел ваших, – тем же громким и по-особому наполненным голосом закончил митрополит.
За несколько минут до наступления полуночи к церкви со стороны Воздвиженского переулка подъехала машина, из которой в полном праздничном облачении вышел патриарх Тихон. Стоящие на улице обернулись к нему и сдвинулись все в его сторону, как будто бы ветер качнул их в одном направлении. Быстро осеняя людей крестным знамением, патриарх прошел в церковь, и началась пасхальная заутреня.
– Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити…
Многие в церкви заметили, что подошедший к митрополиту Серафиму только что прибывший патриарх Тихон негромко сказал ему что-то как раз в ту минуту, когда Плащаницу возлагали на алтарь. И митрополит ему быстро ответил.
В темноте начали зажигаться огоньки свечей, бережно заслоняемые розовыми от света ладонями. Народ вышел из церкви и, смешавшись с теми, которые стояли на улице, пошел крестным ходом вокруг ее белого здания.
Варя Брусилова подошла к Дине, лицо которой, снизу освещенное огнем, было сосредоточенным и тихим, зажгла свою свечку, которую только что задул ветер, от ее свечи и пошла с нею рядом. С каждым новым ударом колокольный звон становился все радостнее и радостнее, и, дойдя до какой-то почти нестерпимости, она, эта радость, наполнила лица, которые робко, испуганно, словно боясь, что накажут, светились улыбками.
«Да, Господи! – отчаянно думала Таня, поддерживая под руку мелкими и старчески-неуверенными шагами спешащую няню. – Мы терпим и будем терпеть, потому что иначе нельзя, потому что, если бы я никого не любила, я бы и Богу ничего не была бы должна, но ведь это Он хочет, чтобы я так любила и Илюшу, и папу, и Сашу, и, значит… И папа бы так за меня не боялся. И Дина…»
Она не успела додумать того, что ей нужно было додумать о сестре: радость, охватившая ее изнутри, мешала словам, которые все равно не выразили бы и сотой доли того, что поднялось в ее душе. Она увидела, что Дина, идущая впереди, приостановилась, и Варя, держа в одной руке свечу, а другую положивши на Динино плечо, говорит ей что-то. Дина стояла спиной, но Варино лицо, которое Таня увидела в профиль, поразило ее своим выражением.
Капелька воска, сильно пахнущая луговым клевером, упала на Танину руку и обожгла ее. Неизвестно почему, но этот маленький ожог сейчас же напомнил ей мать, которую она никогда не увидит больше. Ей показалось, что, если бы мать ее умерла, она бы сейчас любила ее всем сердцем и все бы простила ей, но то, что мать жива, уехала куда-то, на край земли, и все еще не написала ни ей и ни Дине, мешало любви и особенно той бессознательной радости, которая сейчас переполняла ее.
«Нельзя о ней думать! Не нужно!» – приказала она себе.
Идущая впереди Дина не думала о матери и даже не вспомнила о ней. Она, как всегда, с горечью и тоской думала об Алексее Валерьяновиче Барченко, все интонации которого, и жесты, и голос были впаяны в ее мозг и не покидали его.
– Послушай меня! – Варя, всем телом развернувшись к ней на ходу, коснулась своим огоньком ее свечки. – Послушай! Проси Его вместе со мной! Проси, чтоб Алеша был жив! И он, чтобы смертию смерть… Алеша! Пускай он вернется! Проси, я тебе говорю!
Когда крестный ход подошел к дверям церкви и патриарх Тихон, отечное лицо которого сияло торжественной радостью, начал осенять собравшихся крестным знамением, три машины подъехали к ограде, и люди в кожаных куртках, высыпавшись из них, заслонили выход на улицу. В толпе началось беспокойство. Послышались крики.
– Христос воскресе! – сильным, уверенным голосом сказал патриарх, осеняя толпу.
– Воистину воскресе! – ответила толпа.
– Прекратить служение! – крикнул один из чекистов и направился к крыльцу. – Довольно уже послужили! Церковь закрыта!
Патриарх Тихон побледнел так, что даже стоящие поодаль люди заметили эту бледность.
– Христос воскресе! – громко повторил он.
– Воистину воскресе! – еще слаженнее ответила толпа.
– Гражданин Белавин, прекратите противозаконные действия и сядьте в машину! – приказал чекист, видимо, не до конца уверенный в том, как нужно сейчас говорить с патриархом.
– Христос воскресе! – в третий раз провозгласил патриарх.
– Воистину воскресе! – заревела толпа.
Двое чекистов подхватили патриарха под руки и повели его вниз с крыльца.
– Не трогай его! – закричал звонкий мальчишеский голос из толпы. – Ироды!
– Завтра начнется изъятие церковных ценностей! – в рупор прокричал стоящий на подножке машины чекист. – Нужно заблаговременно освободить помещение! Постановление товарища Ленина и товарища Дзержинского! Изъятые ценности пойдут на помощь голодающим!
– Каким голодающим? – забеспокоились в толпе. – Сначала зерно у людей отняли, по миру пустили, а теперь оклады изымают… Вот сучье отродье!
Митрополит Серафим, оставшийся стоять на крыльце, видимо, угадал, что сейчас произойдет что-то безобразное, что-то такое, чему нет названия на бедном человеческом языке и что только темным, дымящимся ужасом застрянет внутри человеческой памяти.
– Братия мои! – громко произнес митрополит, не спуская глаз с того, как патриарха Тихона заталкивают в машину. – Сказано в книге Пророка Иеремии: «За то, что они оставили Меня, и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские, наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и что не говорил, и что на мысль не приходило Мне; за то вот, приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения».
Толпа притихла, и слабым шелестом, повторенное многими, проползло по ней слово: убиения…
– Сказал Пророк, – продолжал митрополит, – «и сделаю город сей ужасом и посмеянием, каждый проходящий чрез него изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их».
Чекисты подали знак милиционерам, и те, как ястребы, налетели на собравшихся:
– А ну, расходись! Всё! Закончился праздник! Пошли по домам! Разговляться!
Половина людей отступила и попятилась. Многие быстро, втянув головы в плечи, покидали церковный двор и растекались по темным улицам. Но были и те, которые с по-прежнему горящими свечками придвинулись ближе к крыльцу. Варя Брусилова, высокая и худая, в белом платке на своих черно-синих, маслянисто блестящих волосах, стояла у нижней ступеньки.
– Вот встретили Пасху, – слышалось из толпы. – А сильные, черти! Гляди, налетели… Ведь сказано: душ наших ищут…
Со стороны Плющихи показались движущиеся факелы, послышались крики, повизгивания и звук балалайки. Та самая платформа, идея которой была единогласно принята на совещании в кабинете режиссера Мейерхольда, выплыла из темноты, всем обликом напоминая чудовищ, которыми люди пугают младенцев. Обнаженные рабы, закованные в цепи, с испуганными и замерзшими лицами, с факелами в руках, изображали вековую отсталость. Впереди них, размахивая красным флагом и подпрыгивая то ли от сильного возбуждения, то ли от холода, ехала женщина в белом балахоне, лица которой было почти не разглядеть, но зато хорошо была освещена факелом ее огромная, до самых сосков оголенная грудь. За оцепеневшими рабами и пляшущей женщиной ехала другая платформа, поменьше, чем первая. На ней помещались одни угнетатели. Угнетатели были представлены обычно: толстые, в больших черных рясах попы, которые держали перед собой неправдоподобно огромные кресты и гнусаво пели какие-то якобы молитвы, вставляя в них неприятные слуху ругательства; капиталисты с подложенными под рубахи подушками, очень хорошо напоминающими животы, где веками откладывались продукты прибавочной стоимости; царь в ярко-желтой короне, с руками, густо измазанными в крови угнетенных; царица в растрепанном лиловом парике, – и много, о, много другого, наспех, но пылко придуманного театральными деятелями и работниками культуры, вся кожа которых – с того октября – горела и ныла от страха.